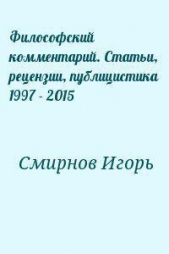Эмбриология поэзии

Эмбриология поэзии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поэт не то чтобы раскрывал свои объятия любому скоплению плавных (чего ему не разрешил бы уже просто–напросто его язык); он не то чтобы затрудненность или медленность речи, или звуки ее ради них самих лелеял; для него эти звуки имеют еще и другой, более музыкальный, чем словесный, хоть и не оторванный от словесного, смысл. Дифференциальное их значение, для языка достаточное, он, конечно, принимает, но дифференцирует их еще и по–своему, никаких других звуков, кроме фонем своего языка, не применяя, но применяя эти фонемы сообразно с их евфоническими, какофоническими, изобразительными и выразительными возможностями, ничего не имеющими общего с той различительной (но не характеризующей) функцией, которая принадлежит им в языке. Возможности эти для каждой фонемы различны; различны, хоть и в меньшей мере, для родственных одна другой фонем (гортанных, например, или губных); различны — чего теоретики не хотят замечать— и для «той же» согласной, но твердой и мягкой, или закрытого е и открытого (по–русски обозначаемого через э). Различие тут, хоть и несколько другое, но не меньшее, чем между твердой звонкой губной и твердой губной глухой. Якубинский приводит стихотворные примеры скопления одинаковых плавных, но не учитывает ни степени их одинаковости, ни тщательности различения (пусть и не осознанного) между скоплением р и скоплением л, хотя сам же это различение и подчеркивает в своих примерах.
Повторы р и л большей частью не в перемешку производятся (как в приведенных мною стихах из «Онегина»), а раздельно, так что в целом стихотворении или в отдельных его частях (если поэт вообще эту музыку избрал) господствует либо одна либо другая из этих плавных. Примеры из Пушкина, подобранные Якубинским, иллюстрируют это хорошо, но он не спрашивает себя ради чего это делается, оттого что поэтическую речь не как речь рассматривает, которой что‑то говорится, а как язык, который, покуда не превратился в речь, ничего не говорит. И не замечает он, что «инструментовка» языковской строчки «Как Волги вал белоголовый» состоит не в повторах любого л, а в повторах твердого л, или, еще точней, в повторах слогов, это эл содержащих, — причем и г, мягкое, потом твердое, известной роли (без различения мягкости и твердости) здесь не лишено. И точно так же, подсчитав, что в пушкинском «Послании в Сибирь» на 7 л приходится 25 р, он пропустил мимо ушей (сэ лё ка дё лё дир, шепчет назойливая Курдюкова), что кроме двух все эти р — твердые, чем особая окраска этому стихотворению и дана; дать ее мягкими р было бы невозможно.
Поэты наши, начиная с Державина, да во многом и с Ломоносова, чувствовали все это очень хорошо, о чем свидетельствует и слишком прямолинейное исключение одной плавной из стихотворений, где господствует другая. Звукам они значение придавали на деле еще больше, чем на словах и — покуда шестидесятническое затмение было далеко — в гораздо более справедливой мере, чем к этому еще и сейчас в большинстве случаев склонны теоретики поэзии.
Подобно тому, как Державин поправил Капниста, Батюшков — но бессознательно на сей раз— поправил самого Державина. В своих записях 1817–го года он отличает «гармонию» вообще (звуковую организованность стиха) от ее особого случая: «плавности». «Гармония, — пишет он, — мужественная гармония не всегда прибегает к плавности»; тут он вспоминает «Водопад» и «Глагол времен, металла звон» из оды на смерть Мещерского. После чего восклицает: «Я не знаю ничего плавнее этих звуков: «На светло- голубом эфире / Златая плавала луна»». У Державина, однако, в первой строчке «Видения мурзы» эфир был не «светло-», а «темно–голубой»; пейзаж- то ведь у него лунный, ночной. Новейший истолкователь и опекун Батюшкова ошибки этой не заметил, хоть она и очень заслуживает внимания [97]. Поэта пленил не пейзаж, а сама «плавность» звучания этих стихов, пусть и не беспредметным сладкогласием, но выразительным изображением плавности этого плаванья луны; вследствие чего, не удовольствовавшись соседними ла и лу, как и предварительным лу в первом стихе, он это первое лу нечаянно подкрепил еще одним толстым л в своем «светло-» вместо державинекого темно–голубого. «Плавность» тут буквальная: изображенье плаванья. Этого Батюшков обязательным конечно не считал; он только выбрал пример с точки зрения простого разграничения «гармоний» избыточный. Практически, если не логически, поэты, в его времена, — это следует повторить — разбирались в таких вещах много лучше, чем в позднейшие, когда о звуках забота стала почитаться зазорной. Это Пушкин мог сказать о них— да еще как плавно — «Бывало милые тебе», а после попыток — даже и гиперболических порой — вновь воздать им честь, остались и поныне на Руси «реча- ри», в прозе и в стихах, которые собственных речей не слышат, не умеют слушать.
В лелеемом Батюшковым сладкогласии стиха (слово это надо производить от «сладостный», а не от «сладкий») едва ли не первую роль играет та именно «плавность», которую он услышал (и дополнил) в первых строках «Видения мурзы». Ею проникнуты первые девять стихов «Тени друга», да и нетрудно обнаружить ее во многих других его стихах. «Я таял и Лаиса млела… / Но вдруг уныла, побледнела». — «Как сладок поцелуй в безмолвии ночей, / Как сладко тайное любови наслажденье». — Это полупереводы (с помощью Уварова) из греческой Антологии. Последний восходит к Павлу Си- ленциарию, искусному стихотворцу юстиниановой эпохи; но мне со студенческих времен запомнилась на тысячу сто лет более древняя строчка из Мимнерма о «потаенной любви, медовых дарах и ложе» [98]: «крюптадиэ фи- лотэс кай мейлиха дора кай эунэ», гдело или, как видим, уже налицо. Естьле и ли и у Силенциария. Этого рода звуки (разного качества л могут и противополагаться и сопрягаться) ласкательны во многих языках; может быть во всех, где они есть? Но тут пора мне сделать оговорку, — подчеркнуть нечто уже сказанное и само собой разумеющееся как будто, но постоянно все же забываемое: скептиками ради отрицанья, энтузиастами ради бестолкового провозглашенья простой и скромной истины.
Речь идет о возможностях, потенциях, а не о чем‑то постоянно действенном и поддающемся механическому учету в словесных звуках. Язык предлагает, поэт располагает. «Бывало милые» ласкает слух, а «ломало хилые», несмотря на прибавку лишнего ла, даже при подходящем контексте, ласковей его не приласкает. Лейла— «плавное» и ласкающее имя; Мариула, с оттенком унылости, тоже; но Лойола или Далай–лама этих свойств как будто лишены. «Вла–вла — звуки музыкальные», но Евлампий для русского уха звучит не музыкально, а смешно. Глафиру я, так и быть, соглашусь, грекам в угоду, сладостной признать, но не любое гла (только что, например, мною произнесенное) и не всякое бла или ела, несмотря на «блаженство» и «наслажденье». Можно даже отпугивающие фалалеев вирши сочинить: Калач, палач, лабаз, лафет / Флаг, балалайка, лазарет; хотя балалайка как- никак за музыку получила свою кличку, для характеристики ее музыки даже и очень меткую. И ведь наперекор всем этим суетным ла, «ласковые такие» обрело звукосмысл благодаря этому двузвучию. Ни в каких фонемах или сочетаниях фонем (вирши мои не отдельный ведь звук повторяют, а двойной) нет ничего, кроме возможностей, предоставляемых речи языком. Будут ли они осуществлены и к чему приведут, от речаря зависит, от поэта. Осмысляющая актуализация звуков в словах и подборах слов, это и есть его основное, всему прочему полагаемое в основу занятие. Занимаются им разные поэты по–разному (как и разнообразно одаренный поэт в разных произведениях или разных частях своих произведений). Осмысление звуков может очень тесно или очень издали быть связанным со смыслом содержащих эти звуки слов и предложений, но совсем с ним не связываться или вразрез ему идти оно, без вреда для поэзии, не может. Столь же нелепо поэтому предполагать неизменную и готовую осмысленность каждого звука, или определенных соотношений между звуками, как и отрицать исконное различие присущих им смысловых потенций, полагать, что все эти потенции в равной мере присущи двум л и двум с, звуку и, как и звуку а или у. Поэты лучших времен этого, во всяком случае, не думали. Пушкин звуков не обособлял, всегда их «союза» искал с «думами» и «чувствами», но именно потому и должен был с особой силой ощущать относительную определенность их смысловых возможностей, — которой, однако, в нашем случае ласкательного сладкогласия положены очень широкие границы.