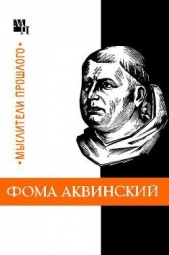Сочинения

Сочинения читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Святой Фома очень похож на великого Томаса Гексли [107] — агностика, выдумавшего само слово «агностицизм», и очень не похож на тех, кто жил после него, но до гекслианской эры. Он почти буквально предвосхищает метод агностиков. Он тоже предлагает идти за разумом, куда тот поведет, только у него разум ведет в иные края. Он выдвигает на удивление современный, даже материалистический принцип: «Все, что есть в сознании, было в чувствах». Мистик начал бы с другого, он начинает отсюда как современный ученый, да что там — как современный материалист, которого и ученым не назовешь. Платоник, во всяком случае — неоплатоник, сказал бы, что сознание освещено изнутри. Святой Фома упорно твердит, что свет проникает туда через пять окон, которые мы зовем чувствами. Но он хочет, чтобы свет, приходящий снаружи, освещал то, что внутри. Он хочет изучать человека, а не только траву, на которую тот смотрит, – она для него лишь начало, исходная точка опыта. Поднимаясь от нее, он карабкается по лестнице, ведущей в дом человека, – ступенька за ступенькой, факт за фактом — пока не выходит на высокую башню, с которой открывается бескрайний простор.
Другими словами, он антрополог, он создал учение о человеке, верное или неверное. Современные антропологи человека изучить не смогли. Они не смогли создать учения о нем, как не смогли создать учения о природе. Для начала они взяли нечто и назвали «непознаваемым». Это было бы еще ничего, если бы под непознаваемым они подразумевали самое тайное и высокое. Но вскоре выяснилось, что непознаваемо как раз то, о чем человек узнать может. Необходимо узнать, отвечает ли он за свои поступки; совершенен ли он, способен ли хотя бы к совершенству; смертен или бессмертен, скован» или свободен; и все это — не для того, чтобы познать Бога, а для того, чтобы познать себя, человека. Если та или иная теория покрывает все это туманом запредельных сомнений — значит, это не антропология, да и не теология. Свободна ли воля человека, или нам только кажется, что мы можем выбрать? Есть ли у человека совесть, может ли он доверять ей, или это только пережиток племенных предрассудков? Может ли разум решать такие проблемы, и вправе ли мы ему довериться? Надо ли видеть в смерти конец, и вправе ли мы уповать на чудесную помощь? Я не верю и верить не хочу, что все это непроницаемо для нас, как разница между херувимом и серафимом [108], или нисхождение Святого Духа. Быть может, схоласты зря занимались серафимами, и человеку не дано их понять. Но спрашивая, волен ли человек выбрать, или смертен ли он, они задавали самые обычные вопросы, вроде «Царапается ли кошка?» или «Есть ли нюх у собаки?». Можно сказать, что у них нет научных доказательств; но наши антропологи не предлагают нам и гипотез. Обычно они предлагают нам только ненаучные противоречия. Почти все моралисты учат теперь, что человек не волен выбрать, но почему–то должен мыслить и действовать как истинный подвижник. Гексли сделал нравственность сверхъестественной в прямом смысле слова, он создал богословие без Бога.
Я не знаю толком, почему святого Фому называли Doctor angelicus [109]: потому ли, что он был кроток, как ангел, или потому, что он был очень умен, или потому, наконец, что позже решили, будто он много занимался ангелами, особенно теми, что толпились на острие иглы. История любит ярлыки, словно человек всю жизнь занимается чем–то одним. Кто назвал доктора Джонсона «наш великий лексикограф», словно он только и составлял словари? Почему так упорно сужают разум Паскаля, что он сжимается в острие иглы, вонзающейся в иезуитов? Быть может, кто–то хотел сузить и вселенский разум святого Фомы, как обычно сужают, снижают, умаляют великих ученых и писателей. У него были враги, хотя он обращался с ними по–дружески. К несчастью, хороший характер иногда раздражает больше, чем плохой. Да и вообще, он досаждал многим и, что занятно, самым разным людям. Он был мятежником для последователей Августина, консерватором для последователей Аверроэса. Одни думали, что он вот–вот разрушит древнюю красу Града Божия, несколько похожего на государство Платона [110]. Другим казалось, что он бьет по прогрессивным силам ислама, словно Готфрид, штурмующий Иерусалим. А может, пришпиливая этот ярлык, враги имели в виду просто его маленький, весьма почтенный труд об ангелах — так Дарвина могли бы назвать исследователем кораллов. Это все догадки, можно выдвинуть и другие. Важно не это; важно, что святой Фома и вправду занимался природой ангелов по той же самой причине, по какой он занимался природой человека. Его чрезвычайно занимали подчиненные, полузависимые создания, разные ступени свободы. Святой Фома интересовался и ангелами, и людьми потому, что они — существа промежуточные. Конечно, я не берусь определить, что же это такое — быть ниже Бога и выше человека. Но именно звенья цепи, ступеньки лестницы занимали святого Фому, когда он развивал свое учение об иерархии. Именно это привлекло его к тайне человека. Человек — не воздушный шар, возносящийся к небу, и не крот, роющий землю, а скорее дерево, чьи корни питаются из земли, вершина стремится к звездам.
Я уже говорил, что современное свободомыслие окутало туманом все, в том числе самое себя. Свобода мысли прежде всего сокрушила свободу воли, хотя и здесь последовательности не было. Детерминисты учили жить так, словно воля свободна, зная, что она несвободна; учили двойной жизни, как некогда Сигер Брабантский. XIX век все привел в беспорядок; для нас, живущих в XX, томизм важен тем, что он может вернуть нам упорядоченный мир. Сейчас я пытаюсь, очень упрощенно и кратко, рассказать, как святой Фома, начиная, подобно агностикам, с темных погребов мироздания, взобрался на высочайшие башни.
Не надеясь втиснуть в такие рамки главную мысль томизма, я все же разрешу себе о ней рассказать. Мне кажется, сознательно или нет, я знал об этом с детства. Когда ребенок смотрит из окна и видит, скажем, траву, – что он знает, если знает хоть что–то? На свете много детских забав безрадостной философии. Блистательный викторианец рад сообщить, что ребенок видит не траву, а зеленоватый суп, отраженный в неверном зеркале глаза. Это рассуждение рационалистов всегда огорчало меня почти безумной своей иррациональностью. Если ученый не верит в траву за окном, почему он верит в сетчатку под микроскопом? Если зрение так обманчиво, почему бы ему не обмануть нас и тут? Адепты другой школы скажут нам, что трава — просто впечатление, отпечаток, а мы ни в чем не можем быть уверены, кроме сознания. По ихнему мы только его и сознаем, но ребенок, как ни прискорбно, только его и не сознает. Лучше сказать, что есть одна трава, а ребенка нет, чем сказать, что нету травы, есть лишь сознающий ребенок. А святой Фома, вмешавшись в детскую ссору, твердо говорит нам, что ребенок воспринимает ens. Много раньше, чем ребенок узнал, что трава — это трава или сам он — это он сам, он знает: что–то — это что–то. Каждому из нас хочется крикнуть (ударив кулаком по столу): «Вот есть что–то, и все!» Только в это и просит поверить для начала святой Фома. Мало кто из атеистов требует от нас так мало. И начиная отсюда сложным путем доказательств, еще никем не опровергнутых, он создает христианское мироздание.
Так, он настаивает на той очень мудрой и очень жизненной мысли, что вместе с утверждением возникает отрицание. И ребенку ясно, что они противоречат друг другу. Как бы вы ни назвали то, что он видит, – травой, туманом, ощущением, впечатлением, – он знает: если он это видит, нельзя сказать, что он этого не видит. Как бы вы ни назвали его действие — смотрит ли он, грезит, ощущает или что иное, – он знает: если он это делает, нельзя сказать, что он этого не делает. Так к простому факту бытия прибавляется еще что–то, и словно тень следует за ним первая заповедь разума: ничто не может быть и не быть. В переводе на обычный язык это значит, что есть ложь и правда. Я сказал «на обычный», ибо Фома Аквинат с особенной тонкостью рассуждает о том, что ens — не точно то же самое, что правда. Словом «правда» или «истина» оценивает ens способный к оценке разум. Но, грубо говоря, в бой вступило то разделение, то распутье, которому мы обязаны всеми боями на земле — перед нами извечные врата, Да и Нет. Чтобы убежать с поля боя, скептики напустили туману, утверждая, что они совместимы. Интересно, что тогда выходит: «На» или гнусавое «Дет»?