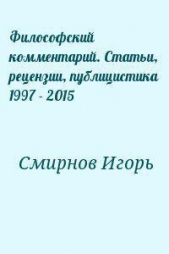Эмбриология поэзии

Эмбриология поэзии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут, однако, надлежит устранить отнюдь не устраненный им двойной источник недоразумений, после чего мы сможем извлечь из его свидетельств другой, самый важный для нас урок.
То, что «вечно, постоянно» и невольно «течет в душе» — еще не музыка, хотя бы и беззвучная. Чтобы музыку оттуда извлечь, нужен почин, — хотя бы лишь соответственно направленного внимания, да и оно музыку там уловит не всегда. И Розанов не «постоянно» ее уловлял, а — в те годы, — скажем, то и дело. Что же до «текущего в душе», с музыкой или без нее, и от вниманья независимо, то ведь это просто–напросто «поток сознания», о котором еще в прошлом веке, после Уильяма Джеймса, психологи стали говорить и который с тех пор не раз изображался в литературе (с наибольшей виртуозностью Джойсом в «Улиссе», а впервые, за тридцать пять лет до него, средне–одаренным французским литератором Эдуардом Дюжарденом [80]). В литературе, однако, поток сознания поневоле изображается словами, и тем самым фальсифицируется, — поскольку мы отождествляем это изображение с ним самим. В действительности, он вовсе не состоит — сплошь, во всяком случае — из слов, и еще того менее из отчетливых и отчетливо связанных друг с другом предложений. Он может превращаться в настоящую немую речь, во «внутренний монолог», согласно французскому, к литературе примененному, наименованию; но покуда ни во что стройное и последовательное не превратился, состоит из обрывков слов, клочков предложений, из ясных и неясных зрительных, слуховых, осязательных и моторных образов, вовсе не непременно сразу же словами названных. Из чего‑то вроде клетчатки, протоплазмы, где — если мы не спим, а «думаем» (сами до поры до времени не зная о чем) — образуются, как в закипающем жидком месиве, и всплывают на поверхность более четкие, обретшие, пусть и приблизительную еще, форму сгустки или пузырьки. Месиво можно назвать мыслью, как мы расплавленный или даже газообразный металл зовем металлом, хотя никаких определенных мыслей мы еще не различаем в беспространственной этой и вневременной туманности.
Определенность дается мысли словом, или, если не к словам она устремлялась, формулой, схемой, чертежом; музыкальной, строительной, изображающей или орнаментальной формой. Поначалу, сплошь и рядом, всего лишь воображаемой формой, незавершенной, намечаемой только формулой, но нередко и уже «в деле», постепенно, рука об руку с материализацией формы, округлением формулы, начертанием знаков, образующих запись мысли, музыки, или внутреннего, так и не произнесенного вслух слова. Во всяком случае, вместе с определенностью дается мысли и потенциальное или актуальное закрепление ее в пространственной (двухмерной или трехмерной) структуре или в непреложном одно‑за–другим и что–после–чего во времени; потому что «поток сознания», хоть и кажется нам (как и Розанову казалось), что он течет «вечно, постоянно», на самом деле времени нашему чужд, в линию что–после–чего не вытянут. Нет в нем ни «откуда», ни «куда», ни «вперед», ни «назад»; вечно он тут как тут, и прошедшее еще в нем; его «вечно» — не то, которое (в восприятии нашем) длит, а то, которое упраздняет время. Он вовсе и не поток: это мы течем — от рождения к смерти, а не он. Ловить поэтому то, что, как нам кажется, в нем плывет, возможно и совсем не торопясь. Если музыку удалось нам услышать в нем, мы ее дослушаем, быть может, вовсе не сейчас, — Бог знает когда: порою поэт лишь на много поздней, пересматривая рукопись, корректуру правя, найдет нерасслышанное сперва, но самое нужное ему слово: он может его найти, покуда старый «поток» способен будет в себе восстановить. И вне времени «течет» не только сам поток, но и всё складывающееся и уже сложившееся внутри него, — с тем, чтобы жить во времени. Есть поразительное свидетельство Моцарта о том, как созданное, но еще не закрепленное в знаках и не обретшее слышимого вовне звука творение его, осознается и слышится им, до того как сядет он писать партитуру, одновременно, все целиком, во всех своих частях. Слышит он его именно так, всего зараз, какой бы оно ни было длины, — das ist nun ein Schmaus, восклицает он, какое пиршество это для него! Большей радости нет. Это лучший дар, дарованный ему от Бога.
Музыки может и не быть. Ни той, что в Моцарте жила, еще не образуя вневременного, но готового подчиниться времени целого; ни той, что живет в поэтах, — словесной, звуко–смысловой; ни самой неуловимой музыки разума и чувства, «музыки души», которая либо предшествует всякой другой, либо сливается с нею нераздельно от самого рожденья; вообще никакой. Протоплазма мысли, стоячий поток сознания (едва осознанного сознания) — не музыка, а сумбур. И не слуховой, не зрительный, не словесный, не «мысленный» сумбур, а все это одновременно и вперемешку. Или — к другим образам переходя (без них не обойтись) — туманность, млечный путь. Не ведет никуда. Опоясывает весь небосвод: видимый нам, и нам, откуда мы глядим, невидимый. Fourmillement innombrable d'etoiles. Определение это муза Урания продиктовала лексикографу Ларуссу [81]. Но ведь все музы — сестры. Годится оно и для того муравьиного копошенья, что суетится — под черепосводом, привыкли мы воображать — в каждом из нас. Нам и телескопа не нужно. Заостришь вниманье, и тотчас вызвездится в тумане, пусгь и тусклая, пусть ничем и не просвещающая нас, неуверенная крошечная звездочка —
Twinkle, twinkle, little star!
как в детской песенке поется. Бывает, однако, что вспыхнет и поярче, а порой, опомниться не успел, и уже— не над тобой, так в тебе— Большая Медведица, Орион, Скорпион, или столь длинный и правильный ряд таких послушливых звезд, какие на пастбищах небесных вовсе и не пасутся. С каждым это бывает, а тем, к кому милостивы звезды, являют они себя, как Моцарт (в том же тексте) о мыслях своих музыкальных сказал, потоком, гурьбой: отбирай какие хочешь; или как Гёте, о стихах своей юности, столь внезапно его посещавших, что писал он вкривь и вкось на листе, пока бумаги хватало: звездный ливень ловить не успевал.
Музыки может и не быть. Но вспыхивают и мерцают огоньки в сумбуре, и немного есть, думается мне, людей на свете, у кого никогда не сложилась бы из них eine kleine Nachtmusik. Дремлет там, конечно, и совсем другое: схемы грамматики, логики; пресные истины рассудка; без них не обойтись никак. Спросит вопрошатель: девятью девять— сколько? И я, в сумбур не заглянув или его не заметив, ответствую: восемьдесят один. Есть математика и в музыке. Ритму нелегко обойтись без метра. Нужен был циркуль тем, кто строил Парфенон. Но прямых линий (совсем прямых) в нем все‑таки нет, да и назывался циркуль у греков «вышагивателем» или «раком»: в самых гладких и трезвых именах таится музыка их возникновения. Отчего музыка? Оттого что там, где рассудка мало, чтобы выйти из сумбура, там нужна она, там прислушиваются к музыке. К музыке звука или к музыке смысла, или к обеим: рассудок одни только клички аптекарских изделий да термины придумывать горазд.
«Взятая сама по себе, мысль — нечто вроде туманности, где не существует никаких закономерных разграничений». На этот раз лингвист это говорит; тот самый, гениальный и боготворимый нынче (не всегда впопад) Сос- сюр [82], который избавления от тумана нигде, конечно, не видел и не исках, кроме как в дифференцирующей (тем самым и побеждающей сумбур) предметности слов и в обеспечивающей эту их функцию (или закономерное расширение ее) языковой системе. В этой функции слов (я называю ее сигни- тивной), в этой их способности обозначать предметы сквозь смыслы, прикрепленные к определенной комбинации фонем — основа языков; ничем другим языкознание и не занимается; это достаточно важно: без этого предмета ее занятий человечества и представить себе нельзя. Но из этого как раз и следует, что поэтическая речь ведению его не подлежит или подлежит лишь в той мере, в какой она пользуется — принуждена пользоваться — внеположной собственным ее требованиям языковой системой (русским, например, языком или любым другим). Языкознание определяет, как именно речь эта пользуется языком, но сама ее поэтичность не вмещается в его понятия. Речь или слово генетически и уж во всяком случае логически предшествуют языку; да и всецело подчиняются ему (поскольку он создан) только в сигнитивной своей функции. Смыслы передаются и вне систем, да и без слов (жестами, например); сквозь эти смыслы, а жестами («дейксис») и помимо смыслов, могут передаваться и (элементарные) предметные значения. Но главная функция внеязыковой, как и надъязыковой (по–своему пользующейся языком) речи — смысловая, сигнитивность вообще отстраняющая, значениями не интересующаяся или отодвигающая их на задний план. Там, где она внеязыковая, она и вовсе бессловесная. Функция эта зовется в просторечии искусством.