На пути в Эммаус. Надежда во времена неопределенности
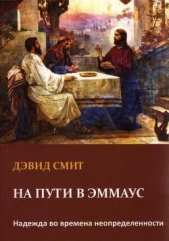
На пути в Эммаус. Надежда во времена неопределенности читать книгу онлайн
«Христос жив, и в мире, на открытых дорогах, где люди на ходу обсуждают свои разочарования, Он открывает им Себя, несет им исцеление и делает это таинственными, часто неожиданными способами» — из Главы 3.
Для нынешних христиан отчаяние двоих учеников, покинувших Иерусалим после распятия Христа, отражает в себе многие аспекты пост–христианского контекста. Однако эта история перекликается также и с опытом современных гуманистов, у которых есть свои причины для сомнений, и с переживаниями многих мусульман, которые тоже готовы вступать с нами в диалог на дороге в Эммаус.
Каждая глава этой книги отражает один из аспектов этой библейской истории и завершается «посланием с дороги в Эммаус», в которых всемирно известные авторы — Альбер Камю, Жак Эллюль, Татьяна Горичева и Эдит Блэк — делятся своими мыслями по обсуждаемой теме. В результате получается живой диалог между верой и неверием, где одинаково отражаются и реальное отчаяние, и возрождение надежды.
«…это проницательная и глубокая книга, бескомпромиссно честная, полная сострадания и мудрости. Я от всей души ее рекомендую» — Винот Рамачандра, Международное сообщество студентов–христиан, Азиатский регион (IFES Asia).
«Книга Дэвида Смита «На пути в Эммаус» очень актуальна, в ней говорится о крушении надежд многих верующих и мыслящих людей в наше время, после многих тяжелых и страшных событий XX века. Нас, христиан на постсоветском пространстве, она предостерегает от слепого копирования прежних путей и приводит к более глубокому пониманию Христа и Его действий, чтобы потом не разочаровываться» — Григорий Ступак, Всеукраинский благотворительный фонд «Открытая Библия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако как уже говорилось раньше, ислам не является неизменным монолитом, и мусульмане по–разному отвечают на вопросы о сущности религиозного опыта и о том, как лучше всего распространять любовь к Богу и повиновение Ему. Критическое размышление над прошлым, над историческим опытом альянса веры и власти под мусульманским флагом, идет рука об руку с новыми вопросами нынешнего дня и необходимостью выработать способы практического исповедания веры в контексте радикально светского общества, стимулируя новые дебаты и поиск новых ответов. Как пишет Кеннет Крэгг, сила мусульманского теизма означает, что мусульмане, скорее всего, никогда не примут аргументов, предлагаемых «светской философией или западными интересами» — и, кстати, правильно сделают. Однако внутри ислама «все же можно правильно и эффективно поставить вопрос о свободе совести», включая отказ от принуждения в вопросах веры и активное участие в реальном диалоге. В конце концов, замечает К. Крэгг, в исламском символе веры, шахаде, Мухаммед называется «Расул Алла» — посланником Бога, а не Божьим генералиссимусом» [54].
А как обстоит дело с нашими попутчиками–гуманистами? Означают ли все эти религиозные дискуссии, что приверженцы различных вероисповеданий вот–вот признают фундаментальную правоту западной традиции Просвещения, покинут публичную сферу, полностью перенесут вопросы религии в сектор частной жизни и перестанут беспокоить политику и экономику критическими вопросами, исходящими из глубин пророческой веры? Конечно, нет! Хотя многие политические лидеры, по всей видимости, желают именно такого конца и хотят жить в мире, где религии лишь послушно поддерживают статус–кво, который, по существу, является светским. Ведь тогда у власти уже не будет никакой необходимости держать перед кем?либо ответ, и «веру» можно будет использовать для укрепления мировой системы, производящей и поддерживающей самую чудовищную несправедливость и неравенство. Мне же, напротив, кажется, что, хотя вера должна обновиться, заново открыв для себя свой трансцендентный источник, и хотя ее осознание своего подлинного призвания в мире неизбежно подтвердит законную независимость и свободу политики, эта вера, тем не менее, обязательно бросит вызов мировоззрению секуляризма и напомнит своим спутникам–гуманистам, что, забыв Бога, мы оказались в такой ситуации, где, несмотря на самые лучшие намерения, построенное нами общество мешает подлинному процветанию человеческой природы.
На самом деле, как мы уже говорили, вокруг есть немало признаков того, что гуманизм начинает относиться к самому себе все более и более критически, так как исторический опыт явно подтверждает слова Мэдлин Бантинг о том, что насилие и деспотизм «бывают не только религиозными», и большинство самых диких ужасов двадцатого века были плодом атеистических режимов. Мэдлин Бантинг убедительно доказывает, что «будущее человека как биологического вида находится под слишком серьезной угрозой», чтобы мы могли позволить себе игнорировать мудрость религиозных традиций. Она призывает нас к «гораздо большему смирению и гораздо более внимательному и продуктивному изучению того, как предшествующие нам века и культуры понимали человеческую природу и стремление человека к свободе» [55].
Итак, в конце путешествия в Эммаус мы стоим вместе, пристыженные и все еще недоумевающие, но со странным ощущением, что все вот–вот изменится и мы стоим на пороге чего?то по–настоящему нового. В евангельской истории говорится, что, уступив горячим просьбам своих спутников, таинственный незнакомец «вошел и остался с ними». Давайте же и мы зайдем в дом вслед за ним.
Момент узнавания
Далее события стремительно подводят нас к кульминации. В повествовании почти не остается второстепенных описательных подробностей, и перед нами открывается картина вечерней трапезы троих путников. Сразу же становится понятно, что динамика взаимоотношений между двумя учениками и незнакомцем стала совершенно иной, потому что теперь в центре оказывается именно он: «Когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». Гость превратился в хозяина; двое, пригласившие к себе незнакомца, сами принимают от него благословение; искавшие вдруг понимают, что их нашли! И в этот кульминационный момент что?то в жестах незнакомца вдруг кажется им знакомым, и в один внезапный момент прозрения, навсегда изменивший их жизнь, «открылись у них глаза, и они узнали Его».

«Вечеря в Эммаусе» (1601), Караваджо, Микеланджело Меризи да (1571–1610). Лондон, Национальная галерея./ Библиотека искусства Бриджмена.

«Христос в Эммаусе» (ок. 1628), Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669). Париж, музей Жакмар–Андре.
Как уже говорилось в начале книги, внезапный проблеск узнавания и не менее драматичные слова о том, что в то же самое мгновение «Он стал невидим для них», сделали этот эпизод неотразимо привлекательным для целого ряда великих художников. Караваджо писал его дважды; именно его картина, написанная в 1601 году и находящаяся сейчас в Национальной галерее в Лондоне, представлена на вклейке этой книги. Это выразительное полотно прекрасно передает бесконечное изумление двоих учеников. Один привстал со стула (если прислушаться, то почти можно услышать стук деревянных ножек об пол), а другой невольно раскинул руки, придавая картине такую глубину, что его левая рука, кажется, выходит к нам, в трехмерное пространство. Между ними, в центре, сидит Иисус, изображенный неожиданно нетрадиционным способом, без привычных католических признаков божественности, и напоминающий нам о молодости Христа, Которого поэт–гимнописец Исаак Уоттс позднее назовет «юным князем славы». На ближнем к зрителю краю стола художник поставил корзину фруктов, которая, кажется, вот–вот упадет на пол; тем самым он словно вовлекает нас в действие, приглашая разделить момент прозрения.
Не менее замечательной, хотя совсем иной по стилю и содержанию, является картина «Христос в Эммаусе», написанная Рембрандтом в 1628 году и находящаяся сейчас в Париже (см. вклейку). Рембрандт великолепно писал библейские сюжеты, и эпизод с путешествием в Эммаус снова и снова привлекал его внимание. Однако эта картина, которую Саймон Шама очень метко назвал «этюдом сокровенного оцепенения», отличается от всех остальных; она ничуть не хуже — а, пожалуй, даже лучше — полотна Караваджо передает благоговейное изумление и восторг момента прозрения, но, кроме того, еще и улавливает ощущение тайны, которую в этой сцене воистину можно назвать «священной» [56]. Что касается учеников, то мы видим лишь одного из них поразительное изображение человека, чей мир только что взорвался светом воскресшего Христа, на Которого он смотрит, не отрываясь и вытаращив глаза. Его спутник исчез, упав на пол и припав головой к коленям Христа, и на фоне скатерти нам видны лишь его волосы, буквально стоящие дыбом.
На заднем плане смутно различается фигура женщины, скорее всего, занятой обычными домашними делами, какие бывают во время ужина. Однако эта фигура лишь усиливает ощущение таинственности и двойственности: перед нами реальное событие, однако здесь происходит что?то необыкновенное, уникальное, выходящее за пределы обычной реальности. Фигура Христа вполне реальна; перед нами тот самый незнакомец, что подошел к ученикам на дороге и вовлек их в разумный, рациональный разговор (который, правда, порядком выбил их из колеи). Но в том?то и состоит гениальность художника, что благодаря ей мы ощущаем, что эта вполне реальная фигура, явно изображающая Христа как свет мира (как Рембрандт изображал Его и в своих замечательных полотнах на тему Рождества), вот–вот исчезнет. Момент прозрения, по определению, всего лишь момент; он длится лишь краткое мгновение и, являясь стимулом для веры, никоим образом не снимает необходимости продолжать жить по вере.
























