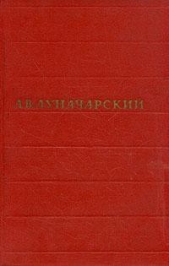Эстетика отцов церкви

Эстетика отцов церкви читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Красота материальных тел определяется их видом, или образом (species), и формой (forma). При этом Августин различает даже «прекраснейшее по виду» (speciosissimum) и «прекраснейшее по форме» (formosissimum) (De vera relig. 18, 35). Вид и форма определяют бытие вещи. То же, «из чего Бог создал все, не имеет никакого вида и никакой формы,- есть не что иное, как ничто (nihil)». Обладание хотя бы малейшей долей формы или вида уже наделяет вещь бытием (18, 35). Следовательно, акт творения сводится к наделению вещей видом и формой. Перефразируя плотиновскую мысль о связи бытийственности вещи с ее красотой, Августин писал: «...тело же тем больше есть (magis est), чем оно благовиднее (speciosius) и прекраснее; и тем не менее есть (minus est), чем оно безобразнее и бесформеннее (deformius)» (De inmort anim. 8, 13). Вид и форма наделяют вещь не только бытием, но бытием в качестве прекрасной в своем роде вещи. Всякая сотворенная вещь, пишет Августин, «прекраснее в своем роде, ибо она облечена формой и видом (forma et speie continetur)» (De vera relig. 20, 40). Даже элементарные геометрические формы типа окружности, треугольника, квадрата обладают своей красотой, не говоря уже о формах растительного и животного мира.
Особое внимание Августина привлекает красота человека, которая по общей для всей поздней античности традиции делится им на красоту души и красоту тела. Ясно, что красота души ценится им выше, ибо она состоит в родстве с интеллигибельной красотой [601]. Не случайно, что и совершенствуется она, как мы видели, поднимаясь по семи ступеням прекрасного (De quant. anim. 35, 79). Душа прекраснее тела в идеале, т. е. абсолютно прекрасная душа на высшей ступени своего совершенства обладает более высокой красотой, чем абсолютно прекрасное тело. Однако в действительности душа человека далеко не всегда находится в этом состоянии. Человеку необходимо много работать по упорядочению, очищению и формированию своей души, прежде чем она засияет своей первозданной красотой, свидетельствующей о способности души к узрению и восприятию абсолютной красоты (ср.: De ord. II, 19, 5). Душа при этом оказывается более податливой в части исправления своих недостатков, чем тело.
Постоянно помня, однако, о том, что человек был создан в единстве души и тела, Августин пытается преодолеть преграду, возведенную между душой и телом позднеантичными философами платоновской ориентации и восточными дуалистами и спиритуалистами. Плохо, по его мнению, не то, что в человеке душа соединена с телом (это как раз благо), но дурна сама устремленность души к телесным благам и вожделениям плоти, т. е. направленность (intentio) души на телесное, а не на духовное. «Душа человека,- писал он,- не оскверняется телом. Не всегда душа оскверняется телом, когда оживляет тело и управляет им, но лишь тогда, когда вожделеет к смертным благам, относящимся к телу» (De fid. et symb. 4). Душа нередко бывает безобразнее тела, когда поощряет ложь и пороки, и, напротив, тело своей красотой может способствовать возвышению души из ее падшего состояния. Тело, писал Августин, «имеет красоту своего рода и тем самым значительно возвышает достоинство души, где и скорбь и болезнь заслуживают чести какой-то красы. Стало быть, неудивительно, если душа, действующая в смертном теле, испытывает воздействия от тел. И не следует думать, что, так как она лучше тела, все, что в ней происходит, лучше, чем то, что происходит в теле» (De mus. VI, 4, 7)*.
Эта диалектика красоты души и тела существенно отличает августиновскую концепцию от плотиновской. Автор «Эннеад», как мы помним, фактически не признавал красоты человеческого тела, а если и признавал, то считал ее столь незначительной, что не выделял особо из красоты материальных предметов, т. е. красоты, занимавшей в его иерархии низшую ступень. Он был глубоко убежден в том, что «для человеческой души тело - оковы и гробница, а сам космос для нее - мрачная пещера» (En. IV, 8, 3). В противовес этой широко распространенной в поздней античности (в частности, и у стоиков) тенденции принижения красоты человеческого тела, многие теоретики раннего христианства (на латинской почве можно указать хотя бы на Лактанция) занялись ее апологией. Однако уже у каппадокийцев на Востоке проявилась ставшая характерной для патристики в целом двойственность в отношении телесной красоты человека. Августин поддерживает именно эту тенденцию, отдавая нередко дань и Лактанциевой увлеченности телесной красотой. Последнее вполне понятно: пылкий и страстный африканец, долгие годы не находивший в себе сил отказаться от плотской красоты и любви женщины ради красоты духовной, уже давно осознавая последнюю как красоту более высокую, несовместимую с плотской.
Августин считал в порядке вещей, что прекрасная женщина (как и красота мудрости) отдает себя лишь тому, кто бескорыстно и безраздельно любит только ее одну (Solil. I, 13, 22). Однако увлеченность красотой женского тела разжигает вожделение и ведет к греху, поэтому женская красота опасна. Формы женского тела прекрасны, но они приобретут более прекрасный вид по воскресении из мертвых, и тогда уже будут служить не плотскому наслаждению или продолжению рода, но исключительно новой, неутилитарной красоте. Тела всех людей вообще по воскресении будут выполнять исключительно эстетическую функцию, так как все телесные и утилитарные функции утратят свою актуальность в вечной жизни (De civ. Dei XXII, 17; 19). Отсюда особое внимание христиан к красоте тела. Августин постоянно напоминает читателям, что красота человеческого тела от Бога, высшей и абсолютной красоты (De vera relig. 11, 21), и что видимые ее формы преходящи (см.: De lib. arb. I, 15, 31). Красота тела «уничтожается или телесными болезнями, или, что более желательно, старостью; несовместимы два желания - оставаться красивым и дожить до старости; с наступлением преклонного возраста красота улетает; не могут жить вместе блеск красоты и стоны старости» (In Ioan. ev. 32, 9). Болезни до неузнаваемости искажают человеческое тело, лишая его всякой красоты (De civ. Dei XIX 4). Все это, конечно, обесценивает в глазах Августина, устремленного к вечным и неизменным идеалам, красоту человеческого тела. И тем не менее он убежден, что человеческий род, не в последнюю очередь именно благодаря телесной красоте, является «величайшим украшением земли» (XIX, 13). Не случайно, замечает он, и в Писании «прекрасных телом (speciosos corpore) обычно называют добрыми (bonus)» (XV 23).
Совершенная и разумная организация, конечно, необходима телу человека и отдельным его членам и органам для выполнения определенных утилитарных функций. И тем не менее Августин вслед за Лактанцием (см.: De opif. Dei 8-10) подчеркивает, что многое в человеке создано исключительно для красоты. «Но даже если,- пишет он,- не брать в расчет утилитарной необходимости, соответствие всех частей [тела] так размеренно и пропорциональность (parilitas) их так прекрасна, что не знаешь, что больше имело место при сотворении его (тела. - В. Б.): идея пользы или идея красоты (ratio decoris). По крайней мере, мы не видим в теле ничего сотворенного ради пользы, что в то же время не имело бы и красоты». Все это для нас было бы еще более ясным, если бы мы знали точные законы (числовую меру - numeros mensuramm), по которым члены и органы тела (не только внешние, но и внутренние) соединены между собой и функционируют в структуре целого тела; тогда мы постигли бы самую «красоту смысла» тела во всей ее полноте и глубине. Однако ни анатомы, ни медики не берутся за выявление этой внутренней гармонии тела, оставляя нам пока лишь восхищаться внешней красотой. Во внешнем же облике человека есть такие части и органы, которые созданы исключительно для красоты (decus), а не для пользы. Так, сосцы на груди мужчины или его борода имеют сугубо декоративное назначение [602]. На основании всего этого Августин приходит (в который уже раз!) к чисто эстетскому выводу, отдавая приоритет незаинтересованной красоте по сравнению с преходящей пользой (utilitas). Если нет ни одного члена в человеческом теле, резюмирует он, который помимо своей утилитарной функции не обладал бы еще и красотой, но есть члены, «служащие лишь красоте, но не пользе; отсюда, думаю, легко понять, что при сотворении тела его достоинство (dignitas) ставилось выше практической потребности. Ибо утилитарная потребность (necessitas) минует и настанет время, когда мы будем взаимно наслаждаться одной только красотой без всякого вожделения» (De civ. Dei XXII. 24).
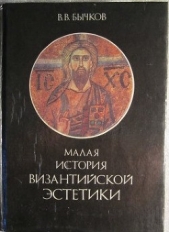
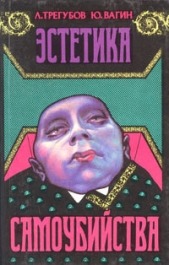

![Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](/uploads/posts/books/135613/135613.jpg)