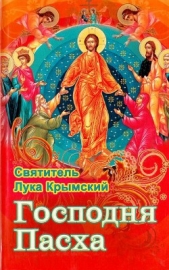«Какое великое утешение — вера наша!..»
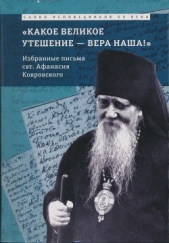
«Какое великое утешение — вера наша!..» читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Меня по окончании срока не раз перебрасывали из барака в барак, с лагпункта на лагпункт со всеми прелестями этапного следования. Меня то держали в общих бараках на общих с заключенными основаниях, то сажали в запертую камеру, с парашей и получасовой прогулкой. Здесь мне объявляли новое постановление того же ОСО «освободить из–под стражи и от высылки и поместить в дом инвалидов» и продолжали держать под замком. На мой вопрос к посетившему нас прокурору Дубравлага: «Почему меня и после недавно объявленного постановления „освободить из–под стражи” продолжают держать под стражей?» — я вместо ответа услышал сердитый окрик: «Почему вы с длинными волосами?» — «Я служитель культа. Нам разрешено и в заключении носить длинные волосы». — «Ничего не знаю. Все должны быть одинаково острижены»…
За время моего сверхсрочного заключения то мне предоставлялось право свободного хождения по всей лагерной зоне, то меня сажали за вторую проволоку и, когда мне нужно было из нашей зоны выйти в уборную, за мной приходил надзиратель и допрашивал, что я там делаю и почему долго задерживаюсь? Все лето 53[-го] года я лишен был возможности дышать свежим воздухом, так как для нас, 120–130 инвалидов, была отгорожена прогулочная площадка размером 35 х 25 шагов, включая сюда и место, занимаемое уборной и мусорным ящиком. На площадке не было ни деревца, ни кустика, ни травинки. С утра и до вечера палило солнце, и небольшая тень была только около уборной. На нашу просьбу отгородить с северной стороны занимаемого нами барака узкую полоску, где можно бы было посидеть в тени, мы получили ответ: «Вы еще птичьего молока захотите!..»
Временами я вместе с другими окончившими срок получал некоторые льготы, которые затем без Всякого с нашей стороны повода у нас отнимались.
Так, с марта 52–го [г.], с момента нашей изоляции на 18 л/о от не окончивших срок, у нас прекратились обыски. Но в сентябре того же года нас перебросили на 8 л/о, и здесь регулярные обыски возобновились, причем они нередко были неосновательно придирчивы и грубы. Лично я почти не имею оснований жаловаться на производивших у меня обыски, но сам факт обыска у окончивших срок всегда чрезвычайно волновал меня, и один из обысков ближайшим образом был причиной происшедшего у меня в тот же день инсульта.
С мая 52–го года нам разрешили неограниченную переписку с нашими близкими. Но в апреле 53–го года, через несколько дней после объявления амнистии заключенным, у нас это право отняли, ограничив только двумя письмами в год. Это стеснение в переписке было особенно тяжело, так как причиняло величайшие страдания не только нам, но в еще большей мере нашим близким, которые привыкли уже получать от нас частые письма и теперь терялись в догадках, не получая от нас никаких вестей.
Мысль о страданиях за меня моих близких угнетала меня более, чем мои личные злострадания. Кроме того, ведь я был не в уединении, а жил в окружении более чем 100 человек, таких же несчастных, как я, давно окончивших срок, которых ждут не дождутся их родные, теряясь в догадках, почему долгожданные не едут к ним? Жены думают, что их мужья нашли новых подруг. Старики родители выплакали свои очи, теряя надежду увидеть в последний раз перед смертию своих сынов и умереть на их руках. Осиротелые дети, оставшиеся без отца, а иногда и без матери, в постоянных слезах ждут, когда же приедет их папа, чтобы отереть их сиротские слезы. А мы, ограниченные до крайнего минимума в переписке и по условиям лагерной цензуры (ведь нам запрещено было употреблять в письмах даже выражение «инвалидный дом»), мы не могли правдиво написать им о нашем положении.
Чужие страдания, рассказы о которых волей–неволей мне приходилось слышать каждый день, не могли не причинять страданий и мне, ибо только совсем черствое сердце могло бы спокойно относиться к тому, что читали мои сотоварищи по несчастью в получаемых ими письмах и чем делились они со мной. Если бы Вы, гражданин Председатель, дали распоряжение лагерной цензуре представить Вам выписку хотя бы из части поступавших к нам писем, Вы получили бы потрясающий документ и, я думаю, Вы взволновались бы более, чем волновался я.
Тяжесть переживаний от той неправды, жертвой которой был я и от которой страдали мои близкие, увеличилась еще более, когда в прошлом году так решительно и всенародно были вскрыты и осуждены допускавшиеся ранее нарушения советской законности, так гневно заклейменные советской общественностью, и когда справедливо и строго были наказаны прежние руководители карательных органов, те руководители, при которых и я, вопреки их собственным постановлениям «освободить из–под стражи», в течение многих месяцев задерживался в сверхсрочном заключении. Можно ли это рассматривать иначе, чем как предательскую деятельность с целью дискредитировать советскую] власть и советскую] законность.
И в правительственных актах, и в советской прессе высказывалось твердое убеждение, что бывшие заключенные, освобожденные по амнистии или по окончании срока, вернувшись в ряды свободных граждан, будут честно и добросовестно трудиться на благо родины. Поэтому давалось распоряжение, чтобы власти на местах оказывали всяческое содействие вышедшим из заключения и в получении работы, и в устройстве их бытовой обстановки. А меня, как и моих сотоварищей по несчастью, не дав мне возможности проявить себя на свободе, заранее ошельмованного уже упраздненным ОСО при бывшем МГБ, по–прежнему продолжали держать под стражей. Можно ли было оставаться спокойным, можно ли было не волноваться? Можно ли было не страдать?
Волновались и мои близкие, читая об амнистии не отбывшим еще срока заключения и теряя надежду увидеться с давно окончившим срок. Их волнения болезненно переживались и мной.
И в такой чрезвычайно тяжелой, нервной обстановке мне пришлось прожить не один день, не один месяц, а более тридцати. В результате всего пережитого у меня на нервной почве развилась гипертония, в январе сего года у меня был первый инсульт.
18 мая текущего года я был этапирован из Дубравлага в Зубово–Полянский дом инвалидов. Конечно, здешнюю обстановку нельзя сравнить с лагерной. Здесь в некоторых отношениях бытовые условия почти как домашние. Но все же, сравнивая жизнь в доме инвалидов с лагерной, я могу сказать только, что из двух зол это меньшее.
Уже самый факт принудительного поселения в дом инвалидов вопреки моему желанию, не считаясь с усиленными ходатайствами моих близких о разрешении мне поселиться у них, является насилием, грубым нарушением советских законов об охране личных прав советских граждан, о чем и Вы, гражданин Председатель, убедительно говорили в Ваших речах пред выборщиками и на заседании Верховного Совета.
С 9–Х1–51 [г.] я считаю себя полноправным, свободным гражданином Советского] Союза и со всею решительностью протестую против продолжающегося насилия и глумления и надо мной, и над советскими] законами. Во всяком случае с указанного числа мне должно быть предоставлено право свободно распоряжаться собой, а меня в принудительном порядке изолируют, как поступают со свободными гражданами только в случае их сумасшествия.
Здесь в инвалидном доме, конечно, больше свободы, чем в лагере. Но и здесь территория дома обнесена таким же, как в лагере, высоким забором, из–за которого мы не видим настоящих вольных людей. За зону чрез вахту мы можем выходить только с особого на каждый раз разрешения коменданта по предварительной накануне, а иногда и за два дня записи с точными указанием, куда и зачем выходим. Даже заключенные бесконвойные в отношении выхода из лагеря пользуются большей свободой, чем я.
Теперь я не в лагере, и, казалось бы, окончилась выдача посылок с просмотром их содержимого лагнадзором. Однако и здесь был случай, когда комендант потребовал вскрыть посылки в его присутствии и показать ему все содержимое. Правда, это был один случай, но где гарантии того, что подобное не повторится?
В лагерях при различных опросах спрашивали только о последней судимости. Здесь требуют от меня сведения о всех прежних за всю жизнь. Когда я совершенно спокойно и корректно указал, что с окончанием срока заключения должны бы прекратиться подобные допросы, а если коменданту нужны таковые сведения, он может взять их из моего дела, — мне было сказано, что я груб и резок, и весьма прозрачно, предостерегающе, если не сказать угрожающе, дано было понять, что моя дальнейшая судьба в значительной мере зависит от коменданта.