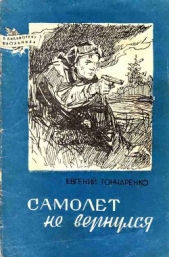Дикий мед

Дикий мед читать книгу онлайн
Леонид Первомайский принадлежит к старшему поколению украинских поэтов. Роман «Дикий мед» — первое его большое прозаическое произведение.
Роман Л. Первомайского необычайно широк по охвату событий и очень многолюден. Основные события романа развиваются во время великой битвы на Курской дуге, в июле 1943 года. Автор с одинаковой пристальностью вглядывается и в солдат, и в генералов, и во фронтовых журналистов, и в крестьян прифронтовой полосы. Первомайский свободно переносится в прошлое и будущее своих героев, действие многих сцен романа происходит в довоенные годы, многих — в послевоенные, и это не только не мешает единству впечатления, а, напротив, обогащает и усиливает его. В «Диком меде» рассказано о тех людях, которые прошли сквозь самые тяжелые испытания и выстояли. Рассказано с нежностью, с глубочайшим уважением к их трудной и сложной внутренней жизни. Кинга особенно сильна поэтичностью, лиризмом. Она напоминает песню — песню о величии человека, о верности, о подвиге, — недаром автор назвал ее не романом, а балладой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Его разбудил тихий, воркующий голос:
— Куда ты дойдешь с ним? Оставайся, Митя…
Берестовский похолодел.
— Село наше глухое, люди у нас добрые… Если и забредут немцы, скажем, что ты наш. А с ним пропадешь… Кто же знает, где теперь фронт! Говорят, что уже и Москва у немцев… Я ли тебя не любила? Я ли за тобой не ходила?
Сила убеждения была не в словах Параски — такими словами она не могла бы убедить Пасекова, Берестовский это знал, — сила была в ее голосе, что словно связывал по рукам и ногам, налагал на душу оковы, тяжелей и легче которых нет на земле. Голос Параски ворковал и ворковал свое… Берестовский поднялся на локте и в короткой вспышке папиросы Пасекова увидел через стол лицо Параски. Пасеков лежал навзничь на краю широкой кровати, она наклонялась над ним, касаясь грудью своей его груди, прядка волос заслоняла ее щеку, она говорила прямо в закрытые глаза Пасекова:
— Ты все для него сделал, и я все сделала… Пускай идет, а ты оставайся, вдвоем будем крестьянствовать. Не век же быть войне!
Потускневший огонек папиросы прочертил полукруг от губ Пасекова к полу, и Берестовский услышал:
— Нет.
Второй раз он слышал это «нет», и второй раз его потрясла сила, скрытая в этом коротком тихом слове. Пасеков умел выговаривать его так, будто оно относилось только к нему одному, а между тем оно охватывало и вмещало все, что было вокруг: войну, любовь, солдатскую верность, воздух и солнце, жизнь и смерть… Второй раз Пасеков говорил свое «нет» ради товарища. Первый раз, когда его звали идти, и второй — когда его умоляли остаться.
— Нет, — сказал Пасеков.
Тихо задребезжало стекло. Параска мигом оказалась у оконца, нырнула под ряднинку, которой оно было занавешено. К стеклу прижималось снаружи маленькое усатое лицо фельдшера Порфирия Парфентьевича. Параска откидывала крюки, отодвигала засовы в сенях. Дождь хлюпал в лужах, шелестел в ветвях черных, безлистых осин у плетня. Темень во дворе была не такая черная, как в хате. Берестовский увидел, как Пасеков обнял Параску, она прильнула к нему и сразу будто оттолкнула его от себя. Берестовский остановился возле Параски, она взяла его обеими руками за плечи и прошептала в шею:
— Пропадете, оба пропадете…
Порфирий Парфентьевич вывел их напрямик к мертвым ветрякам за селом. Он вытащил из шапки кусок школьной карты и сунул ее Пасекову за пазуху ватника.
— Не знаю, хватит ли вам ее… Тут только до Харькова.
— Спасибо, — сказал Пасеков, обнимая фельдшера. — Карты, может, и не хватит. Не за нее спасибо — за все.
Порфирий Парфентьевич мокрыми руками обнимал мокрый ватник Берестовского.
— У меня у самого сыновья там…
Он постоял молча перед ними с минуту и, не сказав больше ни слова, медленно и тяжело шагнул в темноту. Еще некоторое время виднелась его черная фигура, потом стало слышно только чавканье сапог в грязи, потом они очутились наедине с темнотой и дорогой.
Через полтора месяца Берестовский и Пасеков перешли линию фронта под Валуйками.
Из записок Павла Берестовского
Земля содрогалась и гудела под нами.
Мирных сидел на сене, вытянув ноги вперед, и протирал очки. Белый платок как птица бился в его руках.
Рассветный серый сумрак начинал омывать землю. Звезды еще мерцали кое-где, словно мелкие искры в холодном пепле, земля тоже походила на пепел, седые капли росы на траве казались мелкими звездами, что просыпались на землю.
Возникая на востоке и распарывая небо гудением, волна за волною над хутором проходили бомбардировщики, штурмовики и истребители. Они шли на разной высоте, и нижние звенья этой огромной воздушной армады казались станицами больших голубовато-серых птиц, а на крылья истребителей, что летели на большой высоте и казались совсем маленькими, солнце, которого еще не видно было с земли, уже клало теплые розовые и желтые отсветы.
Из моей избы вышли Пасеков и Миня, Миня был как свежий огурчик, Пасеков почернел лицом, угли его выпуклых глаз были словно присыпаны пеплом, волосы перышками торчали на монгольском черепе. Мне стало жалко его. В соседнем дворе появился Дубковский. Варвара шла к нам с Аниськиного двора, перебрасывая через голову ремень своего фотоаппарата. Аниська бежала за ней, обливаясь слезами. Александровна тоже вышла из своей избы, как всегда вся в черном, повязанная своим неизменным платком, но не подошла к нам, а, остановившись на меже, из-под руки стала смотреть в небо.
— Началось, — сказал Мирных.
Земля непрерывно содрогалась. Окна Людиной избы, у которой мы все стояли, часто дребезжали.
— Вот даем, вот даем! — восхищенно выкрикнул Миня. — Ничего подобного я не слышал даже под Сталинградом…
Аниська утерла глаза уголком платка и, глядя Мине прямо в глаза, спросила:
— Куда ты девал Люду?
— Съел я твою Люду! — огрызнулся Миня. — Я людоед… Ам-ам!
Миня, злобно фыркая, нырнул в сени.
— А в самом деле, где ж это Люда? — забеспокоился и Мирных, который чувствовал себя виновным во всем, что произошло вечером.
Никто ничего не знал о Люде.
Солнце уже взошло, длинные тени протянулись по земле. Стало относительно тихо, только в небе гудели бомбардировщики, возвращаясь на свои аэродромы.
— Ну что ж, казаки, по коням? — сказал Пасеков, словно стряхнув с себя тяжелое оцепенение.
Камуфлированная «эмка» стояла за избой под деревьями, на переднем сиденье лежала шинель, а шофера и близко но было.
— Десять суток — и не плачь! — процитировал Миня, который вышел из избы, обвешанный аппаратами, и присоединился к нам.
— Мало, — сказал Пасеков. — Я его отчислю в пехоту!
Заспанный шофер появился во дворе, словно с неба упал, мы даже и не видели откуда. Он с независимым видом прошел за избу, и мы услышали, как забрякала заводная ручка, входя в храповик. Через минуту «эмка» медленно выползла из-за избы и остановилась посреди двора.
Пасеков сел рядом с шофером, Мирных, Дубковский и Миня втиснулись на заднее сиденье. Лица их сразу же расплылись за непромытым стеклом.
Машина выползла со двора, фыркнула за воротами и исчезла в облачке дыма и пыли.
Я поглядел на Варвару.
— Пошли? — ответила она на мой взгляд.
Мы молча зашагали к штабному шлагбауму.
Святой Демьян сидел верхом на стене недостроенной избы в конце улицы, он подтесывал стропило и не глядел в нашу сторону, — топор быстро и весело поблескивал в его руках и словно приговаривал: «А так-так-так! А так! А так!»
КАК ЭТО МИЛО С ВАШЕЙ СТОРОНЫ, ЧТО ВЫ ПРИШЛИ меня проведать, да еще и цветы принесли, и вино, и шоколад! А я думала, что вы давно уже меня забыли. Нет-нет, я вовсе не больна, просто отдыхаю. Галя это называет профилактический отдых. Можно так выразиться? В этом есть определенный смысл: отдохнуть раньше, нежели совсем выбьешься из сил. Это Галина теория. Вот она придет из своей мастерской, вы познакомитесь, и она вам расскажет, что к чему. Сколько ж это мы не виделись? С того мая, когда нам казалось, что настал «на земле мир и во человецех благоволение», прошло уже… Не будем говорить, сколько лет! Давайте уговоримся, что был май, а теперь октябрь — всего четыре месяца, не так уж и много! Никто не постарел, не изменился, никто ничего не забыл. Только неудобно как-то называть друг друга по фамилиям. Майор Дубковский, майор Мирных… Не буду же я вас называть: подполковник запаса Дубковский, майор запаса Мирных! Давайте заново знакомиться: Варвара Андреевна.
— Викентий Петрович.
— Василий Иванович.
— Ну, вот и все хорошо! Василий Иванович, вы можете молчать сколько вам угодно, в этом вы совсем, кажется, не изменились, придется вам заглянуть на кухню, возьмите у мамы штопор и откупорьте бутылку. Рюмочки в буфете, Викентий Петрович, правда, красивые? Галя очень любит стекло, это все она насобирала по комиссионкам… Василию Ивановичу поставьте павловский бокал, белый, с гравировкой, себе — мозеровский красный, а для меня — вот эту маленькую рюмочку со щербинкой, мне всегда наливают в нее капельку, я ведь никогда не умела пить, а теперь и вовсе забыла вкус вина. Ну, выпьем за встречу и за всех, кто мог бы быть сегодня с нами. Представьте себе, я всех помню — не только газетчиков, а буквально всех: командиров и солдат, шоферов, артиллеристов и бронебойщиков, землянки и избы, в которых приходилось ночевать, санитарок и колхозниц, — они все время со мною, и все, что было, тоже со мною. Может, это потому, что у меня полная кладовушка фронтовых негативов. Никак не могу их ликвидировать, а отдать куда-нибудь в архив тоже не хочется. Вот они и выходят оттуда поодиночке или гурьбой — даже тесно становится в нашей квартире — и рассказывают о себе, что с кем сталось, кто кем стал, когда все кончилось, и что могло бы статься с теми, над кем ни солдатской пирамидки, ни бугорка степной земли.