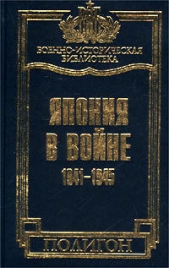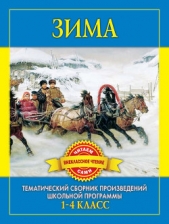Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей

Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей читать книгу онлайн
Впервые в одной книге представлены произведения о Второй мировой войне русских и немецких писателей-фронтовиков (К. Воробьева и Г. Айзенрайха, В. Кондратьева и Г. Ледига, В. Некрасова и Г. Гайзера, В. Быкова и Ф. Фюмана, Г. Бакланова и Г. Бёлля, Ю. Бондарева и З. Ленца, Д. Гранина и В. Борхерта). Когда-то судьба развела их по разные стороны фронта и друг друга они видели только сквозь прорезь прицела. Теперь у них есть возможность вглядеться друг другу в лица. И еще раз осознать, что главное — это оставаться человеком даже в нечеловеческих условиях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Эх ты, недоразумение!
— Спасибо, Хорст, добрая душа! — отвечал З. — Этому я никогда не научусь! — И, считая, что инцидент исчерпан, он, опершись о железные прутья клетки и свертывая из окурков новую сигарету, поспешил подвести итог высказанным соображениям.
— Итак, — приступил он с какой-то даже заметной торопливостью и тайным удовлетворением, точно мастер, которому не терпится завершить свое творение, — пора нам подвести черту. Мы наметили три случая. Представитель высшей расы не может провиниться перед неполноценным отребьем и не может чувствовать себя перед ним виновным: он может разве лишь сожалеть, что оскорбил отсталые чувства. Представитель низшей расы может провиниться перед человеком высшей расы, что и приходится наблюдать сплошь и рядом, хотя вины своей он не сознает. Эдип, однако, считает себя виновным, тогда как, собственно, не виноват ни сном ни духом. Что же отсюда следует? Отсюда следует, что в случае Э. речь не идет о столкновении между расовыми душами. Эту проблему надо решать по-другому.
— Но как? — вопросил П., окончательно растерявшись. — Ведь мы полностью исчерпали все возможности.
— Верно, исчерпали, — отозвался З., и его узкие ноздри раздулись, как у принюхивающейся собаки. Свертывая сигарету, он вместо папиросной бумаги облизнул губы и снова начал беззвучно, словно говоря сам с собой: — Все возможности исчерпаны, да, да, это так, мы рассмотрели все возможности, но только не самую действительность! А что такое действительность? Живая жизнь! Попробуем же перенести случай Э. в наше время и поглядим, что получится. С чего, собственно, начинается действие на сцене? С сообщения, что страну опустошает моровая язва: она уносит людей, точно мух, — умирают старики и дети, гниют плоды, падает скот, матери оплакивают детей; хоры плакальщиц взывают к небу; страна стонет от неслыханных испытаний — существует ли для этого параллель у нас, сегодня?
По тут раздался пронзительный свист; на плацу стоял унтер-офицер. Он кричал:
— Выходи получать боеприпасы!
2
По возвращении со склада, когда они, забавляясь, подбрасывали на ладони лимонки, выданные по две на каждого вместе с боекомплектом трассирующих пуль, исполненный неукротимого рвения П. вновь обратился к почти исчерпавшему себя предмету их беседы, внезапно оживленной стимулирующим вопросом З.; да и в самом деле, подсказанное им сравнение двух отстоящих друг от друга на тысячелетия ситуаций рождало поистине потрясающие аналогии; долгие страшные годы истребительной чумы там и долгие страшные годы истребительной войны здесь; здесь и там ужас и содрогание; здесь и там хоры плачущих и толпы умоляющих об убежище; здесь и там страстная тоска об избавлении от невыносимых мук; здесь и там — точно во внезапном озарении открылось П. — некий неопознанный, вернее, неразоблаченный виновник всех и всяческих зол и страданий, коего необходимо свергнуть с престола и чья власть должна быть уничтожена для того, чтобы зло было наконец изгнано из страны.
— Но кто же он? — неистово вопрошал П. и, следуя своему духовному наставнику, тут же ответил себе, и так же, как тот, монологом: кто он, как не червь, скрывающийся в гнилом яблоке, кто, как не сам сатана во плоти, извечный супротивник, блуждающий Агасфер, дьявол, принявший образ человеческий, смертельный враг народов, которого слишком долго терпели, да и поныне еще не распознали во всей его пагубной вредоносности, как захватчика, склочника и подстрекателя, принесшего людям неисчислимые бедствия, ибо на совести у него, наряду с грязными обманами, всевозможные катастрофы и кризисы, отравление человеческих душ и крови, инфляции, кровопролитные междоусобицы, революции, большевизм и тысячи других бедствий, включая нынешнюю, навязанную нам войну, и — итак, наш неистовый молодой ефрейтор уже видел пред собой желанную цель, да так близко, что все достигнутые им до сих пор познания мгновенно выскочили у него из головы, и на спокойное возражение друга, не может же он, П., всерьез утверждать, что всемирный враг наделен благородными чертами фиванца и, подобно ему, не ведает о содеянном им преступлении, П. не нашелся что ответить, восприняв этот упрек, лишь как мчащийся без оглядки всадник замечает камень, о который споткнулся его жеребец, чтобы уже в следующую минуту сообразить, что сам он чуть не грохнулся оземь; оглушенный, он только и мог пробормотать, что, должно быть, зарапортовался, конечно, какого-то еврея или большевика нельзя сопоставить с благородным Эдипом. Но тут произошло нечто и вовсе неожиданное: старослужащий штабс-ефрейтор А., тучный, обрюзгший детина, при попустительстве властей давно не нюхавший физической нагрузки, — он был уже на взводе, к тому же разгорячен участием в давешней свалке из-за партии в скат, — внезапно обратился к беседующим друзьям, из которых один, невзрачный человечек, стоял в позе победителя, тогда как другой, статный верзила, казался пришибленным и несчастным. Итак, штабс-ефрейтор уставился на них и, еле ворочая отяжелевшим языком, обратился к З. с вызовом:
— А почему бы и нет, мартышка ты? — И в тот же миг, словно отзываясь на ответное оскорбление, с яростью отшвырнул ногой табурет, так что щебенка взлетела в воздух, вскочил и, несколько раз хлопнув себя по лбу, заорал, что все это чистейший вздор, а потом, спотыкаясь, надвинулся на З. и, став перед ним, широко расставив ноги и собрав последние остатки разума в единый залп, пробормотал, что, конечно, евреи, как ему известно, все от дьяволова семени, но самый порядочный человек, какого он встречал, тем не менее еврей, и за это, что бы там ни говорили, он держится железно!
П. так и прыснул со смеху, ибо, едва вымолвив эту фразу, штабс-ефрейтор потерял равновесие и загремел бы на пол, если б вовремя не вцепился в застонавшую решетку; а З., остолбенев, с возмущением уставился на грубияна. В первое мгновение он оторопел, оттого что какой-то пьяный невежда осмелился нарушить его духовное бдение, и в этом замешательстве напоминал шахматиста, чей последний, решающий ход, должный произвести невиданный эффект, не состоялся по вине какого-то надоедливого болельщика; после мгновенной ошеломленности, подобной нервному шоку, обер-ефрейтор в течение одного сердечного биения колебался в выборе между двумя возможностями, остающимися в подобных случаях у оскорбленного: то ли ясно выразить свое недовольство и предложить буяну, чем вмешиваться в разговоры, в которых тот ни черта не смыслит, вернуться к своим картам и винной бочке, то ли предпочесть позицию более разумного человека — не вводить пьяницу в раж, а со снисходительной усмешкой и неопределенным кивком головы, не говорящим ни «да», ни «нет», попросту отвернуться и, как ни в чем не бывало, продолжать начатый разговор, — и З. уже пришел было к заключению, что ни один из этих вариантов не угомонит нахала, который явно рассчитывает на потасовку и ищет нового повода придраться, как вдруг ему открылся крамольный смысл заявления штабс-ефрейтора, словно оно только сейчас дошло до него, и это сразу же сняло действие шока, ибо то, что штабс-ефрейтор сболтнул спьяну, было отъявленным кощунством.
Холодный, язвительный, чуть ли не ненавистнический гнев охватил обер-ефрейтора; кощунственные слова штабс-ефрейтора жгли ему мозг и сердце. В отличие от П., который родился в семье среднего чиновника и которому дома и в школе прививали нацистские взгляды как обязательный элемент той жизни и среды, где ему довелось родиться, и каковые он воспринял не задумываясь, будто нечто само собой разумеющееся, что и позволяло ему с добродушной толерантностью, если не с пытливым либерализмом, воспринимать взгляды инакомыслящих, — итак, в противоположность П., З. отличался воинствующей нетерпимостью и был не чужд умозрительных интересов, чем немало гордился. В особенности последним. Он называл себя если не интеллигентом (ибо критиканско-умствующий, разлагающий образ мыслей этих господ, как и самый термин, был ему подозрителен), то, во всяком случае — и невзирая на насмешки товарищей, — мыслителем, и не только из желания подняться над втайне презираемой муравьиноподобной, серой и тупой, по его мнению, массой, не только из желания создать себе карьеру, которая подтвердила бы его превосходство такими эпитетами, как «академическое» и «высшее», и закрепила бы его соответствующей документацией; нет, он был не чужд подлинной, временами даже глубоко прочувствованной радости, какую дает чистая игра мысли, логические хитросплетения и философские стратагемы, что в известной степени и влекло его к умственному труду, как влечет рыбу вода, насыщенная воздушными пузырьками, и если он, читавший Платона, Шопенгауэра, Канта, Ницше и Якоба Бёме — и даже с некоторым пониманием, — если он все же предпочел удовольствоваться скудным фашистским пайком, упорно не замечая, что столоваться ему приходится на черной кухне, то это объяснялось тем, что его, как и тысячи ему подобных, именно там, и только там, потчевали неким зельем, оглушающим подобно наркотическому снадобью, а именно возвеличением его особы как избранного господина человечества, пуп вселенной, — и не только в той мере, в какой это свойственно всякому национализму, который свою страну и свой народ, а стало быть, в известной степени и самого себя ставит выше окружающих народов, рассматривая свою нацию как самую дельную и самую одаренную решительно во всем, будь то воинская доблесть, искусство торговли и мореплавания, работоспособность, прилежание, мудрость, поэтический и музыкальный дар, душевная восприимчивость и душевное богатство, да и во всем прочем, и который тщится доказать это превосходство исторически засвидетельствованными фактами, от победоносных войн до чувствительных песен, исполняемых под развесистой липой летними вечерами, — нет, здесь прославляли себя, только себя и ничего, кроме себя: это тело, эти лодыжки, эту голову, эти руки, эти глаза, уши, кровеносные сосуды, нервы, ушные мочки, мускулы, эти волосы, почки, легкие и кишки, эту кожу и эту плоть, — как избранную и освященную давностью расу, предназначенную властвовать над прочими человеческими расами и народами, — единственно благодаря помазанию кровью, которая животворит это твое тело, как она животворила тела всех твоих пращуров от мифического сотворения мира, так что ты самим предначертанием природы, космическим предопределением, а также божественным произволением рукоположен от века в кайзеры человечества, ты, Зигфрид, З., двадцати шести лет, оберстгруппенфюрер и командир отделения, студент средних способностей и подчиненный любого фельдфебеля, но на правах бледнолицего повелитель всех людей с другим цветом кожи и на правах немца — всех говорящих на других наречиях!