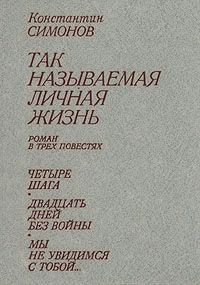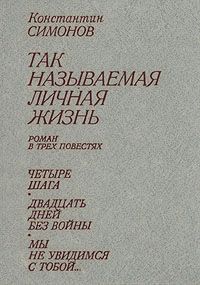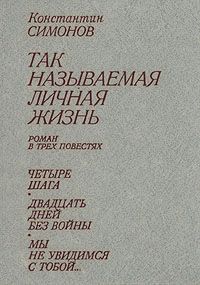Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)

Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) читать книгу онлайн
В томе помещен роман в трех повестях «Так называемая личная жизнь», содержание которого определил сам автор – «о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Второй раз – контузия. Тоже легкая.
– Контузия хуже всего, – сказал проводник. – Об ней больше помнишь, чем об ранах. Я сам на той войне два раза раненный был, об них и не вспоминаю, а об контузии помню. Нагинаться начинаю, и вдруг в голову ударит! Может, просто года мои уже не те, а все равно думаю на контузию.
Он докурил папиросу до картона и поднялся.
– Возьмите в запас, – протянул Лопатин коробку.
– Спасибо. Лучше еще к вам зайду, раз вы одни, – сказал проводник. – А то ездим, ездим с женой взад-вперед, говорим, говорим с ней, сколько за всю жизнь не говорили, и все про одно и то же. Вместе и вместе, и некуда друг от друга деться! Отдыхайте. Чайник я вам оставлю, можно будет и подогреть после.
Он вышел, а Лопатин ехал и думал об оставшейся там, в Ташкенте, женщине, которую мысленно называл «она», так и не научившись ни вслух, ни про себя называть ее Никой.
«Зовите меня как хотите», – сказала она ему ночью, почувствовав, как он в очередной раз запнулся, прежде чем назвать ее тем именем, к которому она привыкла, по которое почему-то не выговаривалось у него, казалось ему каким-то придуманным, не шедшим к той естественной простоте, которая так влекла его в ней.
«Зовите меня как хотите – на «вы», на «ты», Ниной, Тоней, хоть Машей, как вам нравится, так и зовите. Только не запинайтесь, как сейчас. Придумайте то, что вам понравится, и уже не запинайтесь…»
Но он так и не придумал. Продолжал говорить ей то «вы», то «ты», то просто обращался к ней без имени. Он был ошеломлен свалившимся на него счастьем. Долгим или недолгим – неизвестно. Может быть, даже уже кончившимся, но все равно – счастьем!
Он вспомнил, с какой силой отталкивания она сказала там, на перроне, что боится обещаний. Вспомнил и подумал: да, может быть, и так. Может быть, его счастье – уже кончившееся счастье! Хотя он сам в это не верит и хотя он сам не боится обещаний и готов был бы их дать, если бы их ждали, а не защищались от них.
Там, у себя дома, утром с какой-то необидной простотой и нежностью, вдруг заторопив его, чтобы он уходил, пока не проснулся ее сын, она пошутила, что, если считать с того утра, когда она села в Кзыл-Орде в вагон, в котором он ехал, ровно неделя, как они знакомы. Целая неделя! Для военного времени это, кажется, принято считать достаточно долгим. А потом сказала серьезно, что если уж считать, то лучше всего считать так: все начинается с того, как мы с вами встретились в вагоне, и кончается на том, как мы с вами простимся у вагона. А насколько все это существенно, будет время подумать: у вас – в поезде, у меня – дома.
Слово «существенно», которое она употребила, было не ее слово, а его. Она перед этим задала ему вопрос, не ревниво, по-бабьи, а с каким-то товарищеским ожиданием, что не солжет, а скажет правду:
– Вот вы год один, без жены. Что же, у вас ни с кем ничего не было?
– Всякое бывало.
– Это хвастливо звучит, даже не похоже на вас.
– Ну, было что-то, – сказал он. – В Москве, а не на фронте. Несущественное для обеих сторон. Странно, если бы было иначе…
– Вот и я, как вы, тоже считала странным, если бы было иначе, – сказала она с чуть заметным оттенком вызова, словно торопясь еще раз напомнить ему, что считает себя на равных с ним, мужчиной. – Только с той разницей, что заранее не знала, существенно это или несущественно. Что несущественно, только потом понимала, а вы, наверное, заранее знали, что несущественно?
– Да, знал заранее.
Вот и все, что он от нее услышал о годах ее, как она иронически выражалась, вольной, безмужней жизни. Больше ничего об этом не говорила – ни до, ни после.
Хотя нет, еще раз все-таки сказала. Вдруг спросила его:
– А помните, когда вы уходили от Ксении, мои слова, что мы с вами, наверно, еще встретимся?
– Помню.
– Я уже знала тогда, что не наверно, а непременно. Я очень хотела вас снова увидеть и уже решила в ту минуту, что приду на Новый год одна. Хотя вам сказали, что приду вдвоем, да?
– Да.
– А я уже тогда решила, что приду одна, и сделала так, чтоб прийти одной. И собиралась на Новый год одна и только потом, перед тем как прийти к вам на студию, поняла, что не хочу вас видеть на людях. Хочу, чтобы я была одна и чтоб вы были один. И не пошла встречать с вами Новый год. Для меня Новый год было то, как мы с вами тогда шли по улице. Это было мне гораздо важней, чем все другое. Я вас так и не спросила, как вы встретили Новый год.
– В общем, хорошо, – сказал он.
– У меня, когда мы шли тогда с вами, было желание вытащить вас к себе, но я понимала, что это будет нечестно перед Вячеславом Викторовичем, что вам нельзя в тот вечер его бросать, а если я буду вас звать и вы не пойдете, это будет плохо, а если поддадитесь мне и пойдете – тоже будет плохо, потому что вы не должны этого делать. И я ничего вам не сказала. А почему вы меня не спросите, как я встретила Новый год? Хотя я знаю, почему вы не спрашиваете.
– Раз знаете, оставьте при себе, – сказал Лопатин.
– Нет, не оставлю. Я пошла к Зинаиде Антоновне, пришила ей воротник, потом отнесла еще одно платье, и оттуда меня на машине довезли до самого дома – чего только не готовы сделать за платье под Новый год! Мы посидели с мамой и с Марьей Григорьевной ровно до двенадцати часов, выпили по рюмке сладкой наливки, которая была спрятана у мамы, и я легла и заснула. Так устала за все эти дни: и в театре – шили семь костюмов к премьере, и со всем этим новогодним перешиванием так мало спала, что сразу легла и без всякого труда заснула. Вот так я встретила Новый год! По-моему, очень хорошо. И перед сном долго о вас не думала, просто подумала, что завтра вас увижу, и заснула с этой мыслью. А не спросили вы меня потому, что не были до конца уверены в чем-то важном для вас. И это действительно важно.
Так вот, я хочу, чтобы вы знали: я ни о ком больше не думала и ни о ком больше не помнила уже в конце того вечера, когда сказала вам, что мы, наверное, увидимся. Все остальное вас не касается, а это, по-моему, важно.
Он поверил тогда ее словам. Понял, что так оно и было. Главное, он чувствовал, что она действительно совершенно не думает о том человеке, который еще недавно намеревался на ней жениться.
Она вела себя так, словно его и не было на свете.
Сейчас, когда он вспоминал ее, ему то казалось, что он знает о ней слишком мало, то казалось, что слишком много. И наверное, и то и другое было правдой. Она жила труднее, обременительнее, чем он считал, когда впервые ее увидел и услышал первые разговоры о ней. И он понял, что она далеко не все говорит о себе людям, не считает это нужным. Непривычна жаловаться и даже, наоборот, любит создавать впечатление, что живет легче, проще, лучше, чем на самом деле.
Оказалось, она не просто содержит мать и сына, как сказал об этом Вячеслав, а что ее мать настолько больной человек, что уже давно не выходит из дому и не всегда в состоянии встать и открыть дверь. И Лопатину и ей, когда они пришли, открывала дверь не ее мать, а соседка, ленинградка, Мария Григорьевна.
И оказалось, что этой соседке, сорокалетней женщине, вывезенной сюда уже во время блокады с тремя дочерьми, старшей из которых тринадцать лет, отдана единственная большая комната оставшейся половины дома, а две другие комнатки совсем крохотные. И, судя по некоторым приметам быта и отношений, Лопатин безошибочно почувствовал, что единственный мужчина в этом доме – Нина Николаевна. А все остальные: родные, и неродные, и ташкентские, и ленинградские – все, в общем-то, на ее иждивении. Она ими всеми командует, но она на них всех и батрачит.
Она не говорила ни ему, ни, наверно, другим, что они живут с этими ленинградцами одной семьей, но они жили именно одной семьей, и она была главным кормильцем этой семьи.
И с отцом, ушедшим от ее матери, было, наверное, еще сложней, чем она говорила, потому что ее мать оказалась не просто оставленной женщиной, а женщиной, которая, не вынеся горя, стала почти инвалидом. И уже давным-давно, с тех пор, как это случилось, жила, прислонившись к дочери, слабая – к сильной.