Прощайте, любимые
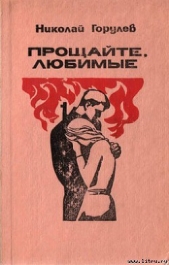
Прощайте, любимые читать книгу онлайн
Книга посвящена незабываемым событиям Великой Отечественной войны. Автора волнуют судьбы людей, которым выпало защищать родную землю от лютого врага. Парни и девчата, наивные, мечтательные, любящие, с первого дня войны становятся защитниками города на Днепре, родного Могилева, живут, сражаются, радуются, погибают и побеждают.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иван лежал и молчал. Не было сил ни шевелиться, ни говорить.
Вернулась Данута.
— Вот сейчас мы тебя разотрем... — сказала она. — Как следует...
— А можа, ён не разумее па-нашаму? — спросила женщина с грудным голосом, наверное, мать Дануты.
— Ты кто? — глядя в глаза Ивану, спросила Данута. — Русский, поляк? Как тебя зовут?
Он слабо улыбнулся:
— Иван...
— Ну, раз Иван, значит, русский, — говорила Данута, а сама оттирала снегом уши и лицо Ивану, потом сняла ботинки, или то, что осталось от них, и принялась за ноги.
Иван застонал.
— Вот это хорошо, — обрадовалась Данута, — значит, уцелели твои ноги, Иван. Пленный? — спросила она, продолжая растирать его ступни.
Иван кивнул.
— Мама, заприте дверь на всякий случай, а то кто-нибудь надумает зайти...
— Ах, божухна мой, — заторопилась мать. — Што гэта на свеце робицца. Свае сваих баяцца.
— У своих длинные языки, — сказала Данута и вынесла ведро в сени. — Сейчас же донесут войту... Ну, — обратилась она к Ивану, — живой? — Живой, — снова слабо улыбнулся Иван и попытался сесть.
Данута помогла ему, поддерживая Ивана под мышки, и подтянула к печи. Он прислонился спиной и сидел прямо на полу, молча рассматривая хату. Длинная лавка вдоль окон, стол возле лавки, тоже длинный. Стены оклеены пожелтевшими от времени обоями, на которых уже нельзя различить рисунка.
— Мама, где-то у нас капля самогонки стоит... — попросила Данута.
— Ты не спрабуй хлопцу налиць. Ен можа, тыдзень не еу.
— Что ты, мама! — воскликнула Данута. — Я хочу еще его ноги натереть.
До боли горели уши, лицо, руки и ноги.
— Ты когда ел? —спросила Данута. Иван подумал и хрипло ответил:
— Не помню.
— Тады дай яму Tpoxi малака, скарынку хлеба, i даволи.
Иван двумя руками схватил алюминиевую кружку молока, хлебнул, поперхнулся и закашлялся так, что чуть не разлил молоко.
— Ты спокойно, не хватай так, — сказала Данута и поднесла ему кружку ко рту, как маленькому.
Иван пил небольшими глотками и смотрел в лицо Дануте. Круглое, подвижное, с быстрыми, чуть раскосыми глазами и припухлым ртом, оно казалось Ивану каким-то знакомым, своим, словно он где-то когда-то встречал это веселое лицо.
Он выпил молоко и только теперь почувствовал голод. Он почти вырвал хлеб, протянутый Данутой, и начал торопливо запихивать в рот.
— Э, да ты так и помереть можешь, — вздохнула Данута. — Ешь аккуратно, по кусочку, пережевывай как человек... Мама, где это твой старый платок? — Она завязала голову Ивана большим шерстяным платком, как повязывают детей, когда они выходят на мороз, натянула на его ноги мягкие валенки, достала с печи старый дырявый кожух.
— Ты куды яго апранаеш? —спросила мать.
— Не будет же он сидеть посреди хаты, как пан какой. Пусть лезет пока на горище. Там солома, сено. Ты поднимешься? — спросила она Ивана.
— Поднимусь. — Опираясь о печку, Иван встал и, поддерживаемый Данутой, вышел в сени. Оттуда невысокая лестница вела на чердак.
— Давай помогу...
— Я сам... — Иван, едва переставляя ноги, пополз по лестнице наверх. Толкнул головой небольшую дощатую дверцу и увидел, что через слуховое окошко на чердак падает солнечный свет, освещая соломенную крышу и сено в углу чердака. Когда он в последний раз видел. солнце? Кажется, в сентябре.
— Ну, чего остановился? — подтолкнула его Данута.
Иван перевалился с края лестницы на чердак и, не поднимаясь, дополз до охапки сена. Он не помнил, как Данута укрывала его, потому что сразу уснул тяжелым беспокойным сном. Ему мерещилось, что в темном непроходимом лесу его догоняли конвойные, а он, цепляясь за сучья и за пни, бежал и падал, бежал и падал... А потом, когда выбился из сил и хотел остановиться у сосны, увидел — на пути стоит капитан Феоктистов. Голова его упала набок, глаза смотрели испуганно и выжидающе. Иван бросился в сторону и почувствовал, что капитан Феоктистов не отстает—он слышит позади его тяжелое дыхание. Иван бросается в другую сторону и вдруг слышит, как Феоктистов говорит голосом Гречихи:
— Хто казав, що бога немае? А хто нам прислал этого парубка?
— Отпустите меня, отпустите домой, — просит Иван. Он падает в снег, а снег совсем не холодный, а мягкий и теплый, и Ивану не хочется вставать.
— Не трогайте его, пускай идет домой, — слышит он знакомый голос и видит у сосны заросшего Михаила. Он стоит и режет кору перочинным ножиком, который дал ему Иван. Иван благодарен ему за эти слова и не решается попросить нож, а тут из зарослей появляется мать Ивана. «Как она постарела, а я и не заметил», — думает Иван. Он встает и идет навстречу матери, а она обнимает его за голову, и ему хорошо и тепло на груди матери и почему-то хочется плакать.
Когда он проснулся, на чердаке было темно. Лишь слегка синело слуховое окошко. Через него Иван увидел звездное небо и понял, что проспал весь день. А может, два или три? Он попытался повернуться и не мог — каждое движение отдавалось болью, все тело горело, как в огне. Дышать было трудно. Иван отвернул шерстяной платок, которым укутала его Данута, но облегчения не почувствовал.
«Ничего, самое страшное позади», — подумал Иван. Он успокоился и задышал ровнее. Разгреб сено и широко раскинул руки. Правой коснулся чего-то гладкого и холодного. Это была поллитровая бутылка с молоком. Значит, он спал, а сюда приходила Данута. Он поднес горлышко ко рту и стал пить. Молоко не освежало. Он отставил бутылку и закрыл глаза.
Да, с ним уже было такое в могилевской больнице. Вот так же нестерпимо ныло тело, такими же свинцовыми казались веки. Он лежал, и картины прошлого, как кадры старой киноленты, мелькали перед ним, расплывались и исчезали.
Вот в палату входит фашистский офицер. Он подтянут, чисто выбрит, даже элегантен.
— Это кто? — спрашивает офицер па чистом русском языке, указывая на Ивана.
— Подобран на улице после бомбежки, — спокойно говорит Кузнецов, который стоит в дверях палаты.
— Я спрашиваю, кто он. Коммунист, комсомолец, беспартийный?
— Несоюзная молодежь.
— Как?
— Несоюзная молодежь, — повторяет Кузнецов. — Так называли у нас тех, кто не состоял в комсомоле.
Иван смотрит на офицера сквозь прищуренные веки, и злость закипает в нем. Он чувствует, как приливает к голове кровь, как руки под серым солдатским одеялом сжимаются в кулаки. Еще минута, и он плюнет в это холеное, чисто выбритое лицо. Но офицер уже подходит к следующей койке...
А вот сидит у его изголовья Эдик. Странный, совсем не похожий на того Эдика, которого привык видеть Иван. В халате сомнительной белизны, которым прикрывает он потертые на коленях брюки. Сидит и молчит, двигая густыми темными бровями. Рука его лежит на руке Ивана. Говорить открыто нельзя — в палате свидетели, — и Эдик тихонько пожимает руку Ивана. Она, словно телеграфный ключ, принимает сигналы друга, и все становится ясно — ребята на месте, ни с кем ничего не Случилось, он, Эдик, рядом и если потребуется — поможет. Иван растроган этим дружеским участием, и рука его благодарно пожимает руку Эдика.
Эдик не засиживается. Он молча встает и уходит, на мгновение останавливаясь в дверях, чтобы ободряюще подмигнуть Ивану...
Потом возникает перелесок у противотанкового рва. Иван чувствует теплое тело Виктории и запах ветра и солнца от ее волос, которые! мягко касаются его лица.
— Вам хорошо, Ваня? — спрашивает Виктория, а он еще крепче прижимается к ней, заколдованный этим запахом ветра и солнца, близостью, от которой так часто и сильно стучит сердце.
Иван хочет, чтоб на этом месте старая лента прошлого остановилась и он еще раз полюбовался бы своей Викторией, но она расплывается и рвется. Иван пытается крикнуть оскорбительные слова незнакомому киномеханику, но слова застревают в горле, а экран все темнеет и темнеет, пока не становится черным, как сажа. Иван падает в эту черноту и замирает...
Просыпается оттого, что кто-то толкает его в плечо. Он открывает глаза и видит Дануту, которая держит в руке недопитую бутылку молока.


























