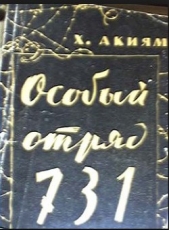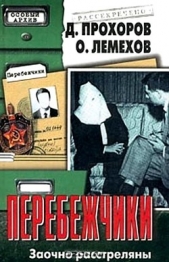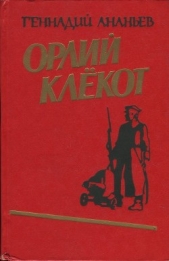Орлий клёкот. Книга вторая
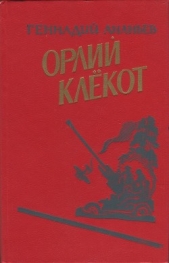
Орлий клёкот. Книга вторая читать книгу онлайн
Вторая книга романа «Орлий клёкот» охватывает предвоенные годы и годы Великой Отечественной войны, которые еще отчетливее и глубже пропахали межу, разделявшую прежде враждовавших героев романа. Вторая книга так же социально конкретна и остросюжетна, как и первая.
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Прошу к столу, — экономя отпущенное на отдых время, пригласил командиров ординарец комбата. — Прошу.
Стол уставлен был основательно: консервные банки, вскрытые уже, призывно манили жирностью; хлеб, нарезанный щедрой рукой, без нормы, аппетитно коричневел шершавыми корочками; кружки, наполненные фронтовыми стограммами, источали дразнящий водочный аромат, а на самой середине стола, главенствуя и затмевая все своей внушительностью, бугрился большой черный чугун с вареной в мундире картошкой, от которой, когда ординарец открыл крышку, пошел по комнате ядреный, так привычный каждому русскому человеку дух, что у всех потекли слюнки.
— Хозяйка расстаралась, — пояснил ординарец. — И красноармейцам наварила и вот — нам…
— А где сама? — спросил Богусловский. — Что ж ее не позвали к столу?
— Звали. Стесняется, должно. На печи вон.
— Чего стесняться? Давай зови. Как без хозяйки? — настаивал Богусловский. — Нам стесняться нужно, если без хозяйки.
На печи сдавленно зарыдали, и, как поняли гости, в два голоса, и Богусловский сам поднялся из-за стола, встал на лавку, откинул занавеску и, всмотревшись в жаркую темность, разглядел девочку и женщину. Девчонка лежала, вытянувшись, и, если бы она не всхлипывала горестно, вполне могла бы сойти за покойницу. Женщина сидела, сгорбившись по-старушечьи, и тоже всхлипывала, гладя по голове девчонку, чтобы, видимо, успокоить ее.
— Освобождение пришло — радоваться надо, а не плакать, — ляпнул Богусловский совершенно неожиданно для себя и вполне поняв задним умом нелепость сказанного, ибо не нужно быть большим психологом, чтобы понять, какое у этих женщин большое горе.
— Да мы и радуемся. Пораньше только бы свобода эта, — выдавила женщина надтреснутым старушечьим голосом и всхлипнула, явно усилием воли сдержав рыдание.
Какое-то время Богусловский растерянно молчал, никак не находя должных к такому состоянию хозяек слов. Потом попросил:
— Спускайтесь вниз. Расскажите. В силах наших если — поможем. А нет если… От исповеди тоже легчает.
— Кто ж теперь нам поможет? — вздохнула со всхлипом женщина и согласилась: — Хорошо. Повечерюю с вами. — И к девочке: — Спустимся, доченька?
Доченька зашлась в приступе отчаянного плача, и женщина-мать заскороговорила:
— Хорошо-хорошо, лежи. Уснуть постарайся. Пересиль себя. Убивайся не убивайся, пользы — чуть.
Налили и хозяйке в фронтовую кружку, она не стала капризничать, чокнулась со всеми и жадно выпила, даже не почувствовав, видимо, ядреной крепости скупо разведенного спирта. И тут же осоловела. От закуски отказалась. Свесила голову на грудь.
Безвольная расслабленность, неуемное горе не могли скрыть той обаятельности, какую обретает женщина в расцвете сил своих; лицо ее, хотя и заплаканное, утомленное, с синими кругами под глазами, оставалось все же привлекательным, а старческая согбенность не укрывала ладности по-деревенски крепкого тела. Да, налицо полный разлад духовного состояния с физическим. Отчего? Мужчины ждали ответа.
Не вдруг она поведала о своем великом позоре. Не вдруг. Стыд мешал. Обычный стыд опозоренной русской женщины. И все же решилась:
— Не плачусь, нет. Помочь вы ничем не поможете, но отомстить — отомстите. Обязаны отомстить. За надругательство мерзостное…
Не так уж и много времени жила под немцами деревня. Но память о себе фашисты оставили вечную. Десант парашютистов посыпался на пашни за околицей, никто даже не успел укрыться в недалеком от села овраге, который уводил в лес. Так себе лес, с овчину, но густой, непролазный, укрыл бы он многих. Председатель колхоза, парторг, эмтеэсовские коммунисты, кого по годам не взяли в армию, успели занять оборону в МТС. Почти все там и погибли. Председателя, хромой был еще с гражданской, израненного всего, — на виселицу. Все село согнали для устрашения.
Жмутся старики да бабы друг к другу, думка у каждого одна: «Сейчас пулеметами покосят и нас всех», — только не стали отчего-то больше зверствовать, отпустили всех по домам.
«— В домах попалят, — опасливо предполагали сельчане. — Как пить дать — попалят».
Не ведали старики с бабами, что приказано немцам не сжигать до поры деревни, чтобы, значит, в зиму не остаться в чистом поле, как случилось в Подмосковье. К российской зиме гитлеровцы уже с уважением стали относиться, побаиваться ее научились. Не тот стал фашист к зиме сорок второго. В общем, село не сожгли. Набились только в каждый дом, как тараканы. Пили шнапс, требовали самогону, но явного озорства не позволяли себе. Вот в этой комнате, где сидели сейчас за столом советские командиры и слушали рассказ молодой женщины, стоял на постое немецкий офицер. Высоких чинов. И он не безобразил. Радовались деревенские, не веря в свое счастье. Самогон сварить — разве труд какой? Пускай хлещут. А если еще махорки в него сыпануть, дурь их быстро с ног валит.
Только вдруг засобирались. Быстро-быстро. Словно в убег намылились. Радость в деревне великая: вот-вот свои возвернутся! На радостях и оплошали. В лес бы податься, так нет — никому в ум не пришло. Оттого и поплатились. Целый уж день никого в деревне, а к ночи, вот они, субчики. На ночлег, значит. Тут и началось. Во всех избах стон и плач. Дедов, какие за баб было вступились, их враз порешили.
— Я дочке своей сказываю, — продолжала горестно хозяйка, — с печи не слезай, дескать, а им, немцам проклятущим, говорю, что больная, значит, она. Мол, вот я готова все перетерпеть, а дочку не трогайте, так куда там: стащили ее с печи, ну и тут вот, где вы сейчас, над обеими измывались. — Горько-горько вздохнула. — Я-то что, я понимаю нашу бабью долю, коль мужики не в силах оборонить нас, а дочка? Ей каково? Переживет ли?
Заплакала навзрыд, не стесняясь незнакомых мужчин, выплескивая переполнившее душу горе.
Командир и комиссар с кружками к хозяйке: «Выпейте! Полегчает!» — и она даже не попыталась отказаться. Стуча зубами о кружку и проливая обжигающий, с ядреным сивушным запахом спирт, едва разведенный, принялась она жадно глотать его, надеясь, видимо, утешиться, сбросить невыносимую тяжесть с сердца, и именно эта ее покорная отчаянность с особой остротой была воспринята Богусловским — он порывисто встал и, забыв вовсе, что на улице пронизывающий ветер, вышел из дома в одной гимнастерке.
«…Я понимаю нашу бабью долю, коль мужики не в силах оборонить нас», — звучало набатно в его голове, и не охлаждал его душевного пожара обжигающий морозом ветер: упрек, нет, даже не упрек, а констатацию факта этой задавленной печалью женщины Богусловский воспринял как позор всему русскому мужскому роду, но особенно — как позор всей армии.
«Как же так?! Никогда не был труслив ни русский, ни тем более советский солдат! Всегда бивали врагов! Отчего же такое?! Отчего?!»
Гамма мыслей и чувств, бурных, обидных, горячила ему голову и грудь, но постепенно все раскладывалось по своим местам, и главенство взяло то его открытие, которое сделал он еще в первые дни войны: виною всему — безместие. Нет, не вдруг случилось у него это открытие, оно исподволь созревало еще давно. Можно сказать, с самого детства. Вначале он просто слушал разговоры старших, какие часто случались в их петроградском салоне, потом, подрастая, набираясь ума и грамоты, осмеливался высказывать свои суждения. Он видел, как снисходительно улыбались старшие, слушая его; это обижало отрока, и он с еще большим жаром отстаивал свое. Шел как-то разговор о силе духа народного, где его истоки и сколь он патриотичен, Михаил соглашался не со всем, что утверждал отец и что в противовес ему приводил генерал Левонтьев, но больше ему импонировала левонтьевская точка зрения: гордость россиянина истекает из ратной славы славянского народа, и он с юношеской горячностью вмешивался в разговор:
«— Нам не нужны легенды, каких насочиняли греки и римляне, дабы возвысить свое происхождение. Слава была колыбелью Руси, а победа — вестницею бытия ее. — Михаил вовсе не стеснялся, что повторял попугайно Карамзина, а может быть, даже не замечал этого, может, бравировал этим, ибо знания его в то время зиждились не на осмыслении, а на запоминании прочитанного. — Когда историки и летописцы заговорили о славянах? Когда славяне разбили римские легионы. Царьград сколько раз преклонял колени перед русичами? Перед варварами! От Чингисхана кто Европу закрыл? Русь! Себя она тоже спасла. Да-да, монголы не осилили Русь: целые города гибли в неравной сече, но не приняли рабства. Со славою гибла Россия, и не погибла вся, устояла частично и отомстила, оправившись: Куликово поле, Угра. Да не одним татарам доставалось. Агрессия всегда наказывалась русскими. Скандинавы за алчность свою еще во времена викингов получали зуботычины от русских. А шведов кто утихомирил? Русский ратник!..»