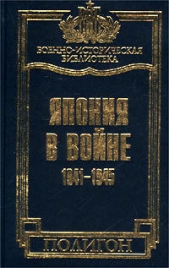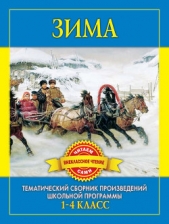Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей

Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей читать книгу онлайн
Впервые в одной книге представлены произведения о Второй мировой войне русских и немецких писателей-фронтовиков (К. Воробьева и Г. Айзенрайха, В. Кондратьева и Г. Ледига, В. Некрасова и Г. Гайзера, В. Быкова и Ф. Фюмана, Г. Бакланова и Г. Бёлля, Ю. Бондарева и З. Ленца, Д. Гранина и В. Борхерта). Когда-то судьба развела их по разные стороны фронта и друг друга они видели только сквозь прорезь прицела. Теперь у них есть возможность вглядеться друг другу в лица. И еще раз осознать, что главное — это оставаться человеком даже в нечеловеческих условиях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Один комбат ничего не замечал. Он близоруко согнулся над своей измятой схемой, водил по бумаге пальцем, допытываясь и обличая. Он был сейчас и подсудимый, и судья, он учитывал на своем суде и Володю, и Рязанцева, и меня, и обоих комбатов — того, молоденького, в фуражечке, и этого, в галстучке, с авоськой, и, может, других комбатов, которые существовали когда-то между этими двумя.
У Казанского собора Рязанцев сошел, долго примиренно прощался, просил не забывать его. Он обещал комбату сообщить про обои, утешающе похлопал его по плечу, потом отвел меня в сторону:
— Ты как считаешь, на вечере встречи он тоже… все что…
Я посмотрел на комбата. Он распрямился, мне показалось, он стал выше, и лицо у него было другое, каждая черточка прорисована четко, со значением, как на старинных портретах, и костюм его перестал выглядеть старомодным, просто это был костюм из другой эпохи, так же привлекательный, как доспехи, ментики, камзолы. И осанка чем-то напоминала фигуру Барклая де Толли, памятник на фоне колоннады, твердое темное лицо его и плащ, — и русских офицеров, их нелегкие законы чести, безгласный суд, которым они сами судили себя, приговаривая себя… Я позавидовал его одиночеству. Давно я не оставался в таком одиночестве. Отвык я от его неуютных правил — делать свое дело по совести, не объясняя своей правоты, не ища сочувствия.
— Да, он, конечно, может… — сказал я Рязанцеву.
— Как же быть тогда? — озабоченно спросил Рязанцев.
… Машина шла по Невскому, где-то позади остался встревоженный Рязанцев, скоро и мне надо было выходить. Я не знал, что сказать комбату на прощанье. Он тоже сидел озабоченный, ему тоже предстояло что-то решать и делать. И в себе я чувствовал эту озабоченность. Если бы мы служили в армии, тогда все было бы проще. На предстоящих учениях учтем. Научим курсантов. Или если бы мы писали военную историю. Комбату, пожалуй, легче, он учитель, а кроме того, он остается комбатом, вот в чем штука…
У Владимирского я увидел свою жену вместе с Инной, они возвращались с рынка. Мы остановились и вышли из машины.
— Как вы съездили? — спросила жена.
— Отлично, — сказал Володя. — Все было о'кей!
— Бедняжки, вы же промокли, — сказала Инна.
— Не считается, — Володя засмеялся, щурясь на ее золотые волосы, и она тоже засмеялась.
— А это наш комбат, — сказал я.
Он неловко и безразлично улыбался, держа свою авоську с плащом, голубенький галстук топорщился, грязные широкие брюки мокро обвисли, вид у него был истерзанный, как после схватки, и никто не знал, что он победитель.
— Я представляла вас совсем другим, — разочарование прорвалось в голосе моей жены, но она ловко вышла из положения. — Знаменитых людей всегда представляешь иначе. — Она поискала, что бы еще добавить приятное, и, не найдя, обратилась к Володе, заговорила про его песни — она давно хотела его послушать.
Комбат посмотрел на меня.
— Обиделся?
Я кивнул и понял, как глупо было обижаться. Пока женщины и Володя разговаривали, мы с комбатом смотрели друг на друга. Забытая, явно не медицинская боль сдавила мне сердце. Откуда-то возник жаркий августовский день, лесная заросшая узкоколейка, отец, еще крепкий, шагающий рядом по шпалам, желтый складной метр в кармане его холщовой куртки. Дорога свернула, и мы вошли в березовую рощу. Огромные белые березы обступили нас. Воздух сквозил, легкий и пятнистый. Я замер, пораженный этой доверчивой, нетронутой белизной. Сколько мне тогда было? — лет четырнадцать. Я никак не мог понять, почему красота способна причинять такую боль, сладкую неразбериху, мучительную до стыдных слез.
— Обязательно приду, — сказал Володя. — Готовьте коньяк.
Комбат протянул мне руку. Левой рукой он снял шляпу, густые волосы его поднялись, серебристый отсвет упал на лицо. Рука его была сильной и твердой. Он сжал мои пальцы, и я ответно пожал ему руку, так, чтобы он знал, что я все понял… Губы его дрогнули, но усмешка не получилась, и он чуть заметно поклонился мне.
Они сели в машину. Володя помахал женщинам, отдельно Инне, и они уехали.
— Ты жалеешь, что съездил? — спросила жена. — Но ты ведь был готов. Ты и не ждал ничего хорошего.
— Зато твой Володя прелесть, — сказала Инна. — А этот, представляю, наверно, все о своих заслугах. Хотя видно, что был красивый мужчина.
— Не огорчайся, — сказала жена. — Мало ли как люди меняются с годами. Что тебе, впервой?
— Господи, да если б я мог стать таким, как комбат, — сказал я. — Если б мне хватило сил…
Я взял у жены сумку, и мы пошли домой. На Владимирском и на Невском — всюду стояли высокие белые березы, прохладные березовые рощи. Звуки города исчезали, было тихо, только наверху, в кронах, тревожно посвистывали пули.

Krieg

Герберт Айзенрайх
Звери с их естественной жестокостью
(Рассказ)
Перевод Ю. Архипова
Голод забывается, стоит поесть досыта, и подлянки твои забываются, если остались в прошлом, и любые проблемы — едва их разрешишь. Но есть вещи, которых не забыть, как ни старайся: только подумаешь о них — и сразу в памяти оживет все, что с ними связано, — и голод, и подлость.
Голод в те дни был действительно страшный. Мы и припомнить не могли, когда в последний раз что-либо жевали, а марш-броску все не было предела, и с каждым шагом мы все дальше отрывались от баз снабжения, затерявшихся где-то позади. Далеко вперед ушли танки с пехотой на броне, за ними двигался наш полк, то сбиваясь гуртом, то растягиваясь на километры. Шагали мы по левому краю дороги гуськом друг за другом, стаптывая каблуки. Там и сям валялись по обочинам останки раций, телег, ящиков от снарядов. Однажды попались на глаза коровы — задрав ноги, словно силясь повернуться на спину, они лежали на боку, и было видно, что подохли они уже давно, несколько дней назад, и в пищу, стало быть, не годятся. По другой стороне дороги навстречу нам двигались небольшие группки пленных, а между ними и нами — посередке — сновали автомашины. Те, что следовали в тыл, были полны раненых, или трофейного оружия, или всякой техники, а те, что направлялись вперед, чаще всего везли боеприпасы и горючее для танков. Но провизии в них не было, как не было ее и в хуторах, и в деревеньках, встречавшихся на пути, — то есть там вообще шаром покати насчет съестного. Даже когда мы останавливались покемарить хотя бы полночи, приходилось лишь потуже затягивать пояса — русские всё дочиста забирали с собой, а чего не могли унести, то сжигали. Не встречалось здесь и подсолнухов, которыми раньше мы кое-где спасались от голода. Одно набивалось в наши рты — пыль, что тучами взбивали колеса автомашин да облачками — наши, числом немалые, сапоги. Воды и той не найти: большинство колодцев разрушено или забито нечистотами. «Тут не в Сталине дело, а в Толстом», — разглагольствовал Герцог цу-Райт, подкрепляя нашу догадку о том, как непонятна и как необъятна эта Россия.
Еще недавно мы войну представляли себе иначе: больше боев, меньше маршировки. Впереди, правда, время от времени раздавалась стрельба, но пока мы туда добирались, выяснялось, что наши танки уже выполнили всю работу: на остывающем поле боя виднелись лишь остовы обгоревших танков противника — взорванные башни, искореженные стволы, — да выгоревшие скелеты автомашин, да перевернутые орудия, да трупы между ними, а над трупами — тучи очумелых мух. Отойдя немного и оглянувшись, мы видели, как над полем ровной вертикальной стеной встает дым, но стоило отойти подальше — и казалось, что столп дыма не к небу поднимается, а на землю сходит с небес.
С голодухи повелись у нас дрязги да перебранки, возникавшие по пустякам. Заводилой чаще всего выступал Хартлебен. Возьмет и ляпнет что-нибудь вроде: «Я уделал уже пятерых». «И двух не наберется», — сразу взовьется Ян. Утром русские внезапно пошли в атаку, но, укрывшись за придорожной насыпью, мы атаку отбили и потом насчитали среди нападавших сотни две трупов. Ничего не было глупее, как спорить теперь о том, кто убил русских больше, но Ян с Хартлебеном не унимались.