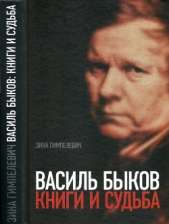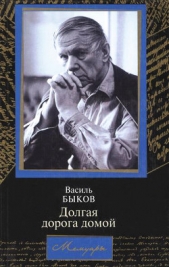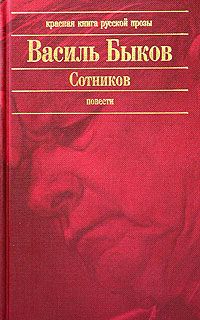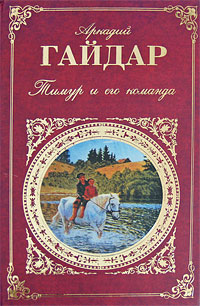Блиндаж

Блиндаж читать книгу онлайн
Не так давно в домашнем архиве Василя Быкова была обнаружена неоконченная повесть “Блиндаж”, написанная им еще в 1987 году. Библиотечка журнала “Дзеяслоў” (Минск) в 2007 году издала эту повесть отдельной книжкой. Подготовил ее к публикации Алесь Пашкевич. Он упорядочил текст, из авторских набросков “смонтировал” план заключительных разделов, что представлено в конце текста курсивом как дополнение к основной канве повести.
Валерий Стрелко,
переводчик, член Союза белорусских писателей,
член Национального Союза писателей Украины
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Так это самое… Уж ты меня не прогонишь?
— Ай, что вы говорите! Как же я прогоню!
— Вот я так и подумал: Серафима не прогонит. Все же мы с ее братом вон как дружили.
Он крепко закашлялся — плохим застарело-простуженным кашлем, когда так трудно откашливается и все хрипит в груди. Серафимка нахмурилась, конечно, нужно помочь больному человеку, но было и боязно: а вдруг утром опять припрутся Пилипенки? Уж, наверное, сейчас они не лучше того Асовского, и как бы не накликать беды на обоих? Но ведь и как откажешь человеку, когда такой холодище?
— Вот только печь у меня выстуженная, дым не идет. Но вы уж в запечье…
— Хорошо, — покорно сказал Демидович и поднялся со скамьи.
Она что-то кинула-положила на нары в запечье, взбила свою подушку. Он лег, не раздеваясь, и она накрыла его старым тулупом.
Слабым голосом он попросил:
— Может, еще чем накроете? А то трясет всего.
Она набрала каких-то лохмотьев и старательно укутала и голову, и ноги Демидовича, который, слышно было, и в самом деле трясся даже после этого.
— Зелья вам нужно заварить. Ну вы лежите, а я, может, в грубке затоплю.
Все кашляя, он остался в запечье, а она принесла дров и принялась растапливать грубку. Постепенно, как бы нехотя, дрова все же загорелись. Дым немного сочился сквозь дверцу, но шел и в дымоход — все же было лучше, чем в печи, откуда он весь валил в хату. Вот только сварить что-либо в грубке было тесно и неловко, нужно было ждать, когда немного перегорят дрова.
Накашлявшись, Демидович, видать, уснул. В хате, как всегда, стало тихо и глухо, дрова помалу горели, и она, примостившись на скамеечке перед дверцами грубки, начала чистить картошку. Маленький чугунок с водой кое-как пристроила сбоку, возле огня, это на зелье. В сенях у нее было припасено немножко сушеного малинника, чебреца в мешочке и еще одной травы — заячьих хвостиков, которая, говорили, здорово помогает от простуды.
Давно не беленный, ободранный бок грубки понемногу теплел, но холод в хате пока не уменьшался, по-прежнему сквозь щели из окон задувал ветер. Привычно сгоняя с картофелины тонкие очистки, Серафимка думала о брате Николае. Он был одногодок этого Демидовича, они вместе учились в педтехникуме, еще в давние года молодыми парнями приехали в местечко учительствовать — Демидович преподавал историю и обществоведение, а ее Николай — белорусский язык и литературу. Они хорошо дружили и даже некоторое время квартировали совместно в длинном, как сарай, доме у хромого Рывкинда за синагогой, до тех пор пока Микола не женился на учительнице начальных классов. Тогда Демидович и перешел на квартиру к этому Асовскому.
Когда у брата родилась доченька Аленка, Серафима перебралась из деревни в местечко нянчить маленькую и постепенно стала почти полновластной хозяйкой в небольшой семейке брата: смотрела за девочкой, ходила на рынок, в магазины, убирала, готовила еду учителям, которым вечно было некогда — весь день в школе, а вечерами над тетрадями, готовились к урокам. Кроме того, Николай вскоре втянулся в общественные дела, ставил в РДК спектакли и даже пару раз водил туда и ее — когда играл сам с женкой Ядвигой Ивановной. Помнится Серафиме, постановка была очень смешная: как к молодой девушке подбивался пожилой шляхтич, а она не хотела выходить за него, любилась со своим молодым парнем. Так уж смеялись тогда все, а Николай и другие артисты радостно кланялись со сцены, и Серафимку захлестывала гордость, ей хотелось сказать всем, что это ж ее родной брат такой умелый артист… Кажется, Демидович тогда тоже участвовал в пьесе, а потом они всей компанией заглянули к ним на квартиру, выпивали. Серафима угощала их клецками — было это как раз на мясоед среди зимы.
Да, дружили, работали вместе, а когда и что произошло между ними — Серафимка не знала по сей день. Помнит лишь, как однажды, поздно придя с какого-то собрания, Николай показался ей вконец расстроенным, просто обозленным даже, Ядвига Ивановна все уговаривала его, утешала, а он покачивал головой и чего-то не мог постичь.
Назавтра утречком, оставшись одна с невесткой, Серафима спросила за брата, и та скупо ответила:
“Обвинили в национализме”.
“В чем?” — не поняла Серафимка.
“В том, хуже чего не бывает”, — туманно объяснила невестка.
Серафимка больше не спрашивала, Николай понемногу стал спокойнее, по-прежнему учил в школе, а то ездил во время разных кампаний по району — шла как раз коллективизация, и он, как партийный, был в разъездах по самым дальним уголкам района. Спектаклей больше не ставили, дома не собирались, в РДК каждый вечер проходили то собрания, то слёты, то конференции, но Серафимка на них не ходила, и о чем там говорили — не знала. Она только поглядывала с тоской, как Николай все больше мрачнел и чахнул, становился все молчаливее, дома никогда не шутил даже с женой и как бы отчурался от ребенка, что уж совсем было непонятно Серафимке.
Малой Аленке было годиков шесть, это была живая смешливая девочка, Серафимка очень любила ее — даже больше, чем брата с невесткой. И вот однажды, когда она купала в корытце маленькую, та вдруг говорит:
“А я знаю, почему папка вчера плакал”.
“Плакал?” — ужаснулась Серафимка, такого она и не подозревала даже.
“Плакал. Потому что он искривил линию”, — бодро проговорила малая, сидя в мыльной воде.
“Какую линию?”
“Ну, ту, ну, ту… Наверно, ту, что у дяди Петруся в портфеле”, — придумала племянница.
И Серафима сначала чуть успокоилась, а потом задумалась. Видать, все ж это была не та линия-линейка, которую носил в портфеле учитель рисования Петр Петрович, то была некая иная линия, когда из-за нее плакал взрослый мужчина, учитель, ее брат.
Она хотела расспросить обо всем Николая, да не решилась, брат по-прежнему был нервный, молчаливый, несколько раз, слышала она, в их комнатенке поднималась ссора с женой, но из-за чего — сколько Серафимка ни вслушивалась из кухни, понять не могла. “Принципиальность, уклон, искривление” — кого и куда — могла ли она разобраться с ее тремя классами?
Тогда же, помнит, как-то вечером в начале весны к ним заглянул Демидович с поллитровкой в кармане. Она собрала того-сего на стол и слышала, как они разговаривали, больше ругались, отчаянно, враждебно, и расстались поздно, в полночь, обозленный Николай даже не встал из-за стола проводить друга.
Больше Демидовича она у них не видела. Да вскоре вообще белый свет потеряла из виду, плакала целыми днями, а позже и совсем вернулась в свою утлую хатку на окраине Любашей. Это когда брата арестовали, а невестка Ядвига Ивановна через месяц отказалась от него на каком-то большом собрании и дома злобно сказала, чтобы Серафимка выбралась к Первомаю, ибо она, Ядвига Ивановна, не хочет иметь ничего общего ни с врагом народа, ни с его родней.
Уж сколько лет минуло с той весны, а все помнится, будто живое, и болит, будто это случилось вчера. Тяжело Серафимке уразуметь, кто тогда был прав, кто виноват, и в чем грех ее единственного брата; может, и правильно его посадили. Только очень больно ей прежде всего за невестку: уж, кажется, любил ее Николай, как только можно любить мужчине, бывало, чего-то сам не съест — все чтоб ей осталось. Какая копейка — ей на наряды, чтоб выглядела не хуже других. Этак же, глядя на него, относилась к невестке и она, Серафимка. Уважали в той семейке брата Ядвигу Ивановну пуще всех остальных. Даже больше, чем малую, которая всем несказанно нравилась, и спустя годы Серафимка, как вспоминала ее, так сразу и в слезы — от тоски по маленькой Аленке…
Демидович спал плохо, с вечера люто, надрывно кашлял, пока не согрелся под тулупчиком Серафимки. Среди ночи Серафимка напоила его отваром из трав, и он стал немного спокойнее, может, уснул крепче. А Серафимка так и не уснула до утра, все топила-нагревала грубку, чтобы было теплее хоть в запечье, правда, добиться этого в дырявой, как решето, хате было непросто. Затем варила картошку. Толочь ячмень ночью она не решилась, боясь потревожить гостя, и сидела перед грубкой, то подкладывая туда дрова, то сгребая в кучу угли.