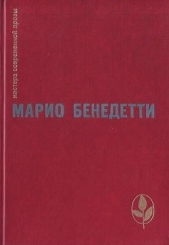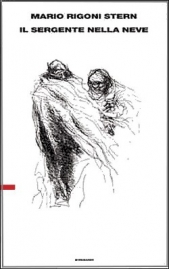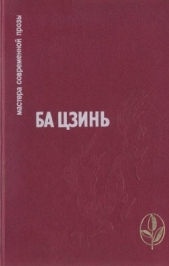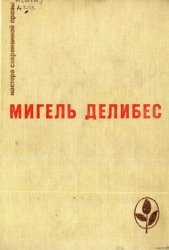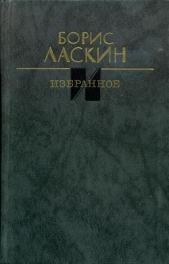Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Когда говорят: биография писателя — это его книги, обычно имеют в виду не реальные обстоятельства жизни писателя, а то духовное содержание, которое заключено в его творчестве. Но бывает и так: писатель как будто бы пишет только о себе, не отступая от действительно им пережитого, а между тем эти переданные точно и подробно факты его биографии, перенесенные на страницы литературного произведения, обретают особую нравственно–эстетическую значимость и становятся важнейшим компонентом художественного контекста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я сейчас мечтаю об этом снеге, который так ненавидел, который столько лет меня преследовал; я мечтаю о нем, чтобы провести ночь в избе, на печке — там ждут меня все друзья и товарищи, не пришедшие домой.
Жена сжимает мне руку: должно быть, понимает мое состояние.
— Я замерзла, — говорит она.
Но, если попросить Бориса закрыть окно, он наверняка заснет — ведь он за рулем уже одиннадцать часов подряд; и я укутываю Анну своей шерстяной охотничьей курткой.
Скоро Алексеевка (и тогда, в самом начале, мы направлялись к ней: говорили, что деревня занята немцами, а на самом деле там уже были русские). Оттуда начинается асфальтированное шоссе на Белгород и Харьков. Но Алексеевки нет и нет, и к тому времени, как Борис замечает, что сбился с дороги, мы уже не имеем понятия, куда нас занесло.
След тракторных гусениц приводит нас к большому загону и конюшням. Фары освещают табун лошадей, и жеребята, испуганные неожиданным светом, мчатся по кругу с развевающимися на ветру гривами и хвостами. И передо мной возникает другая картина: ночью, в пургу наша рота шла в голове окруженной колонны, и вдруг из темноты в снежной круговерти возникли две самоходки и начали поверху стрелять из пулеметов трассирующими пулями. Потом они снова исчезли в темноте, как эти жеребята, лишь только Борис выключил фары.
Никто не сторожит лошадей; мы кричим, но никто не отзывается. Снова садимся в машину и осторожно спускаемся в какую–то балку; там видим избы, Борис сигналит и выходит из машины. Лают собаки, кое–где открываются двери, и в освещенных проемах появляются женские фигуры. Время позднее, дети, видно, уже спят.
Спрашиваем дорогу на Алексеевку, они отвечают хором, но каждая свое. Из их гомона я улавливаю, что мы попали в малонаселенный район Украины, примерно между Варваровкой и Острогорском. Пробудились от сна и мужчины, они велят женщинам замолчать и заводят неторопливый разговор. Они даже предлагают нам у них заночевать, и я за то, чтобы остаться: поедем дальше завтра утром.
Но Лариса и Борис говорят, что это невозможно, мы должны во что бы то ни стало вернуться в свою гостиницу — даже если придется ехать всю ночь. Наверно, нас там ждут и будут беспокоиться. Тогда какой–то юноша берется показать нам дорогу, сажаем его на заднее сиденье, где едем мы с женой. Прощаемся и благодарим жителей этой неизвестной деревни;
— Болшой спасиба!
— До свидания, — говорят они нам.
Через час в какой–то деревне молодой человек выходит, сказав, что здесь у него женщина и она его ждет, а завтра на попутном колхозном тракторе он вернется домой пасти лошадей. Он показывает нам дорогу и желает счастливого пути и благополучного возвращения в Италию.
Машина движется в темноте, ледяной степной ветер дует в открытое окно, мы все молчим. Борис время от времени сбавляет скорость и роняет голову на руль, но я спокоен: даже если съедем с дороги — ничего страшного, кругом ровная степь. В свете фар, где по–прежнему, словно красные бабочки, кружатся осенние листья, мелькает барсук, потом лиса, еще лиса, зайцы. Среди этих бесконечных просторов спят мои товарищи, это и есть та Россия, которую я искал.
Мы еще два раза сбились с пути в эту ночь — мне бы хотелось, чтобы она никогда не кончалась. В какой–то деревне Борис спрашивает у двух парней, где заправиться водой: они явно навеселе — видно, и здесь по субботам выпивают. Лариса и Борис расстроились: такая неприятность в присутствии иностранных гостей! У меня их смущение вызывает улыбку.
Через некоторое время спустила шина. Вдалеке лают собаки, и пока мы меняем колесо, нас сечет дождь со снегом. Еще два часа едем молча, наконец я говорю Борису, что страшно устал и мне уже все равно, куда мы едем.
— Но ты не огорчайся! Не попадем в Харьков, так попадем в Воронеж или в Москву, не все ли равно? — Услышав в ответ его смех, я добавляю по–русски: — Ничево, Борис! Нет война.
Будь на небе звезды, я нашел бы дорогу в Харьков. Но сколько моих товарищей не нашли дороги домой тогда, в том огненном и снежном аду? Они шли, кружили на одном месте, ползли на четвереньках и исчезали. Когда на небе появлялись звезды, небольшой сугроб означал, что под снегом — человек.
В конце концов находим указатель: Короча. Мы слишком забрали на север, но еще 140 километров по хорошему шоссе, и мы в Харькове, в гостинице Интуриста, где будет даже чересчур тепло. Приедем к завтраку. После вчерашнего обеда в Россоши мы ничего не ели, если не считать сливочных карамелек, которые мы сосали вместо ужина, — тех, что я купил у женщины, сказавшей мне: «Арриведерчи!»
Два дня моя жена с высокой температурой лежала в постели, и только под вечер я выходил на час–другой пройтись по городу.
Мне нравилось гулять по старой улице, может быть, единственной сохранившейся старой провинциальной улочке в заново отстроенном после войны Харькове. На этой полюбившейся мне улице ступени ведут к освещенным дверям полуподвальных магазинчиков: там внизу тепло и уютно. Я спускаюсь в каждый из них. Тут продают книги, репродукции, табак, чай, баранки, пуговицы. Мне удалось найти пачку украинской махорки — старого, деревенского курева, которое мы с нашими русскими товарищами раздобывали в лагерях.
«Марио, давай газету», — говорил мне Петр Иванович и из обрывка немецкой газеты делал толстые самокрутки, вспыхивавшие при каждой затяжке. Вновь обретенная махорка кажется мне самым драгоценным, самым замечательным табаком на свете. Старуха, вытащив пачку из какого–то дальнего угла, протягивает ее мне, качая головой, и не берет с меня денег — копеечной стоимости, указанной на желтой обертке: возможно, она поняла, чтó для меня значила эта находка.
Эти магазинчики ниже уровня улицы с ее вечерним потоком машин напоминают мне старую Россию Гоголя и Шагала. С той разницей, что, войдя туда, я вижу не бородатых купцов, а студентов. Парни и девушки листают книги, пьют чай, спорят, меняются марками и значками, одним словом, живут своими интересами, и я, старый сержант–альпиец, воевавший против их отцов до того, как они стали мне братьями, кажусь себе доисторическим существом. А может, и нет, потому что в одном подвальчике с красновато–коричневыми стенами, когда я, выпив чаю и поев блинов, собрался уходить, несколько человек сказали мне: «Чао»! Именно «чао»!
Раза два я, гуляя, доходил до окраины города, где строятся новые районы. Большие современные здания на сотни квартир, а рядом еще сохранились одноэтажные дома с огородами и курами. Глубокая балка разделяет старый и новый город, и через нее перекинут широкий мост. Я остановился на мосту и смотрю на людей, возвращающихся вечером домой с покупками; некоторые едут из–за города на велосипедах с корзинами грибов. Охотник ведет на поводке великолепную гончую. Проходя мимо, она обнюхала меня и вильнула хвостом. Наверняка учуяла запах моего Чимбро. Я наклонился к ней и почесал за ухом.
Мы вернулись в Киев и на следующий день сели в поезд «Тольятти — Турин». Нашим спутником оказался шумный американец итальянского происхождения, родители его были из Тренто, а сам он со времен корейской войны живет в Токио. Он ехал транссибирским экспрессом из Владивостока с целым набором фотоаппаратов и кинокамер. А еще с запасом виски и кучей долларов. Как только мы переехали границу СССР, он принялся ругать советских таможенников за то, что они перевернули вверх дном его купе.
Мне хотелось в тишине спокойно смотреть в окно на поля, трактора, которые разрезают пласты земли, на птиц, летящих за плугом. И в далеком сорок третьем, когда мы, немногие оставшиеся в живых, сели в поезд, чтобы вернуться домой, я увозил с собой похожий образ, многие годы помогавший мне жить: за разрушенной деревней, на холме, черневшем на фоне красного неба, одинокий крестьянин шел за плугом, который тащила худая белая лошадь, и длинный кнут в руках крестьянина, казалось, поддерживал небо.
Ну вот, я снова вернулся домой, но теперь я знаю, что там, между Днепром и Доном, самое мирное место на свете. Там царит великий покой, великая тишина, великая безмятежность.