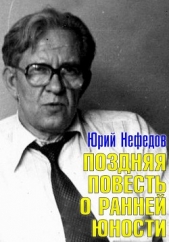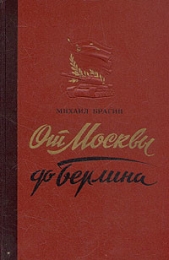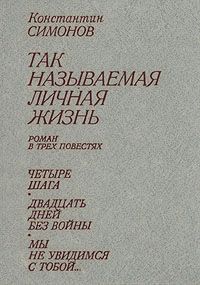Эти четыре года. Из записок военного корреспондента. Т. I.

Эти четыре года. Из записок военного корреспондента. Т. I. читать книгу онлайн
Лауреат Государственной премии Борис Полевой в годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом «Правды». Дневниковые записи тех лет и легли в основу двухтомника «Эти четыре года». В первом томе автор рассказывает о тяжелых оборонительных боях поздней осенью 1941 года, о том, как советские войска громили фашистов под Москвой, Сталинградом. Писатель воспевает величие ратного подвига советского солдата, его самоотверженность и героизм.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь они убедились, что вопреки геббельсовским прокламациям, вдалбливающим им, что у русских нет плена, плен есть. Увидели, что Красная Армия блюдет международные законы и соглашения, поняли, что никто их ни убивать, ни мучить не собирается. Может быть, теперь до их мозга, отравленного годами гитлеровской пропаганды, дошла вся изуверская суть отказа от капитуляции и вся бессмысленность бесчисленных жертв, понесенных в бесцельной их стойкости, верности приказу, с которыми они сражались в последние дни в этом чужом и ненавидящем их городе.
Большое сердце у советского человека. Добр и отходчив он в гневе. Но гнев, который подняли оккупанты Великих Лук, все ж таки иногда побеждает и эту исконную русскую доброту. Мы видели сегодня на углу улицы, возле сожженного танка, как старая женщина рванулась к пленным и, прежде чем конвоир успел ее удержать, плюнула в лицо высокому пожилому солдату в очках. Тот отскочил, опасливо закрываясь руками, должно быть полагая, что его будут бить. Конвоир взял старушку за плечи и отвел ее на тротуар.
— Нельзя, мамаша. Пленные.
— А им можно? Они у меня дом спалили. Им можно?.. Сына увели. Им можно? Они… — Старушка снова рванулась к пленным, крича: — Куда, дьяволы, дели моего Женьку? Куда? Говорите!
— Отставить, мамаша. Нельзя. Пленные, — повторил конвоир, удерживая старушку, и вдруг, должно быть сам не сдержавшись, сорвался: — Думаешь, мне мед их тут охранять, когда наши ребята вон крепость берут?.. В бою бы они мне попались… А тут — приказ.
Пленные шли озябшие, согбенные, молчаливые, втягивая головы в воротники шинелей, пряча глаза…
Количество пленных растет. Но сопротивление еще не сломлено. Отдельные огневые точки держатся, и довольно стойко. Их гарнизоны часто сражаются до последнего. Громкоговорящие установки орут во все горло. По радио выступают те, кто уже сдался. Агитируют. Листовки суют чуть ли не в амбразуры огневых точек, а в ответ звучат пулеметные очереди.
В городе остались еще два серьезных очага организованного сопротивления. Древняя крепость, у стен которой когда-то великолучане отбивали атаки войск Стефана Батория, и район вокзала, где, по утверждению майора Николаева, в подземном каземате добротно построенного еще нами бомбоубежища отсиживается фон Засс.
Куда же уходят корни этого фанатического упорства, которое стало просто бессмысленным?
Пообедав, идем пешком на маленький пригородный полустанок, где в просторных дворах совхоза пленные ожидают отправки в наш тыл. Тут оборудована баня с дезкамерами и вошебойкой. А в доме служащих совхоза расположен госпиталь для обмороженных.
Запах нестираного, сопревшего белья шибает в нос прямо на пороге.
— …И моем, и стрижем, и свежее белье даем. Черт его знает! Никак эту вонь не выведу, — смущенно говорит комендант лагеря, капитан с саперными петлицами, немолодой уже человек, строевой командир, который все еще никак не может смириться с этим своим новым положением. В детстве он жил среди немцев Поволжья. Хорошо знает язык. Вот это-то его, по его словам, и «погубило». Новая должность ему не по душе.
Собственно, «погубило» его, как мне кажется, не только знание немецкого языка, но, вероятно, и то, что в анкете его значилось, что был он когда-то воспитателем в коммуне беспризорников под Харьковом.
В знаменитой коммуне имени Феликса Дзержинского, которую организовал знаменитый Антон Макаренко.
— Сам член Военного совета генерал Леонов со мной разговаривал. «Немецкий язык знаете?» — «Знаю». — «Беспризорников с Макаренко воспитывали?» Что было ответить? Говорю: «Точно, воспитывал». — «Ну и быть вам в лагере комендантом». Вот какой был разговор. А я саперный инженер. Разве саперам сейчас мало работы?
Фадеев смеется:
— Так не нравится?
— Кому понравится! Видали, что они с городом сотворили? А тут возись с ними, Гаагскую конвенцию соблюдай. Мне Гаагскую конвенцию в Политуправлении армии сразу вручили. Дескать, изучай… Ну изучил, конечно…
Но человек капитан острый. Политически воспитанный. И неприязнь к порученному ему делу не мешает ему исполнять его хорошо. Сразу же, попав в лагерь, замечаешь, что «герр комендант» пользуется уважением. Нет, не напрасно генерал Леонов остановил выбор на нем.
— Вот мы привыкли говорить: фриц, фриц… А ведь все они очень разные, эти фрицы и гансы, — говорит нам «герр комендант» задумчиво. — Молодежь — это в большинстве своем или фанатики, или головорезы. Идешь мимо — тянутся, козыряют, каблуками щелкают. А чуть конвоир зазевался — драка. Я им умывальники за тридцать километров на лошадях тащил. И что ж вы думаете? Вижу — не умываются. Почему? Забастовка? Нет. Никому неохота за водой идти, спорят, друг на друга сваливают, а колодец-то у нас далеко. Обтирают морды снегом и ходят как в белых масках… А вот постарше — те люди, с теми можно и по душам поговорить. У них чувство товарищества и солдатская честь. Стеклом, да побреются. Золой, да умоются. Возле раненого и больного ночь просидят… С этими лажу. — И тихо, будто сообщает Фадееву бог весть какой секрет, говорит: — Крепко они мне, товарищ бригадный комиссар, в деле моем помогают.
— Каким образом?
— А вот тех, кто постарше годами да посерьезнее, я начальниками назначил. Должностей для них повыдумывал. Старшина барака. Старшо́й десятки. Ведь у немца дисциплина — первое дело. Раз «герр комендант» в начальство определил, стало быть, начальник. Подчиняются. Ну вот с помощью их и навел порядки. Может, вам это смешно — самоуправление. А ведь действенная штука. Теперь попробуй кто из них в очередь за водой не сходи. Или пайку хлеба у товарища сопри. Герр старшина или герр десятник такую трепку зададут…
Капитан хитровато усмехается. Чувствуется, что хотя этому русскому командиру должность его неприятна, может даже тягостна, однако он доволен, что сумел сориентироваться в совершенно необычной обстановке и организовать дело.
— Так вы с ними, значит, по Макаренко действуете?
— Ну не совсем так. Антон Семенович в нужных случаях и кулаки в ход пускал. А у меня руки связаны. Гаагская конвенция. Мне генерал Леонов строжайше наказал: каждую букву соблюдать.
Ходим по баракам, служебным помещениям. Пленным тесно. Но всюду порядок. Соломенные тюфяки, даже если они и лежат на полу, подбиты и застелены старенькими госпитальными одеялами. Заплатанные наволочки и простыни чисто вымыты. Над каждой постелью на гвоздике шинель, пилотка, подшлемник с каской или фуражка. При нашем появлении вскакивают, становятся навытяжку перед своей постелью. Стоят в струнку, не дыша, и провожают глазами.
— Это уж не от меня. Это они сами такое завели, — говорит несколько смущенно комендант. — А я не мешаю. Пусть, раз к такому привыкли.
— Ну а настроение?
— Разное. Гитлера своего, можно сказать, каждый второй вслух ругает. Но думаю, что некоторые, особенно молодежь, эти больше по подлости, чем от души. А вот те, что постарше… — И он опять начинает говорить тихо, будто сообщая тайну: — Хорошие люди, доложу я вам, среди них есть. Даже, я бы сказал, мыслящие… Один из них — он обмороженный, в госпитале лежит, — так он нашему врачу сказал: «Чувствую теперь, будто тринадцать лет смотрел страшный сон, а теперь проснулся…» И ведь вы знаете, такому верить можно. — И совсем тихо, будто признаваясь в вине: — Я вот верю…
— Побегов не было?
Капитан даже свистнул.
— Какие побеги! — И смеется. — Прошлой ночью четверо сами пришли. Как они там сквозь наши порядки просочились, не знаю. Но так вчетвером вооруженные и притопали.
Суют часовому у барака листовку-пропуск. И говорят по-русски: «Плен, плен». Это русское слово у них теперь известно. — И опять, наклоняясь, капитан доверительно говорит вполголоса: — Их армия, я так полагаю, машина.
Отлаженная машина. Она страшна на ходу, а останови ее, вынь колесико — она и встала… У них как руки поднял, стало быть, не воин…
Сколько уже раз слышал я подобное от наиболее мыслящих наших командиров!
Просим познакомить с интересными пленными.