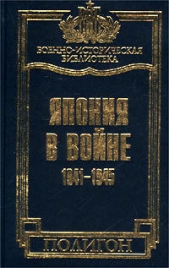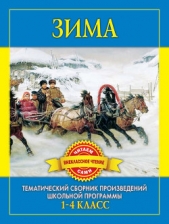Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей

Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей читать книгу онлайн
Впервые в одной книге представлены произведения о Второй мировой войне русских и немецких писателей-фронтовиков (К. Воробьева и Г. Айзенрайха, В. Кондратьева и Г. Ледига, В. Некрасова и Г. Гайзера, В. Быкова и Ф. Фюмана, Г. Бакланова и Г. Бёлля, Ю. Бондарева и З. Ленца, Д. Гранина и В. Борхерта). Когда-то судьба развела их по разные стороны фронта и друг друга они видели только сквозь прорезь прицела. Теперь у них есть возможность вглядеться друг другу в лица. И еще раз осознать, что главное — это оставаться человеком даже в нечеловеческих условиях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вечером, после тошнотного хвойного отвара, когда от голода дурманно колыхались нары, не было ничего трогательнее этих песенок. Я тогда понятия не имел о Вертинском, он считался запретным. И почему так действовали на нас бананово-лимонный Сингапур, сероглазые короли, желтые ангелы…
Голос у Володи остался такой же, низкий, с щемящей хрипотцой:
Сеня Полесьев лежал в своем углу холодный и твердый, это был уже не Сеня, а предмет, как доски нар, как банка с ружейным маслом. Мы еле дотащили его, раненного в живот. Он умер к вечеру, и через час мы получили за Сеню порцию хлеба, суп и поделили его сто пятьдесят граммов. Пришла Лида, мы налили ей в кружку и оставили немного супу — закусить. Она легла между нами погреться — как мужчины мы были безопасны.
В дверь заглянул комбат.
— Что за веселье? Что за песни?
— День рождения справляем, — сказала Лида.
— Чей это день рождения?
— Вы разве не в курсе? — сказала Лида. — Может, хотите присоединиться? У нас славная компания.
Никто, кроме Лиды, не позволял себе так говорить с комбатом.
Пригнувшись в низком проеме, он смотрел на Сеню, прикрытого газеткой. Мы знали, что он любил Сеню и защищал его перед Баскаковым… «Одиннадцатый», — сказал он голосом, обещающим долгий смертный счет, ничего не отразилось на его лице, и я позавидовал его выдержке.
Он ушел, а мы лежали и пели. И если уж откровенно — мы выпили за упокой Сени и потом чокнулись за здоровье вождя. Мы хотели, чтобы он жил много-много лет. Потом Володя отправился в наряд, а мы с Лидой заснули, прижавшись друг к другу. Проснулся я оттого, что почувствовал ее слезы.
— Не убивайся, — сказал я. — Война.
— Дурачок, я ж не о нем, — и вдруг она стала целовать меня. Спросонок я не сразу понял, гимнастерка ее была расстегнута так, что открылись голубенькие кружева ее сорочки, и я впервые заметил, какие у нее груди, несмотря на голодуху, какие у нее были крепкие груди. Но она ведь знала, что я ничего не мог, никто из нас тогда не мог. И все равно мне было стыдно за свою немощь. Я оттолкнул ее, потом выругал, ударил, скинул ее с нар, вытолкал из землянки. «Сука, сука окопная!» — кричал я ей вслед. Сейчас мне казалось, что потом я тоже заплакал, да, было бы хорошо, если б это было так, но я точно знаю, что я не плакал, я завалился спать, я считал, что я чем-то подражаю комбату, такой же непреклонный и волевой.
Какая подлая штука — прошлое. Ничего, ничего нельзя в ней исправить…
Вместо Лиды сейчас подпевал Рязанцев, фальшиво и самозабвенно, и взгляд его предлагал мне мир и забвение.
Володя взял у комбата его бумагу и протянул мне.
На ватмане, заботливо прикрытом наклеенной калькой, вычерчены были позиции батальона с черными кружками дотов, пулеметными точками, с пунктиром ложных окопов. Рядом то льнула, то отступала синяя линия противника, с острием «аппендицита», занозой, всаженной в нашу оборону. Наискосок самодельную карту перечеркивала нынешняя ветка электрички, обозначен был и этот новенький домик под красной крышей, на котором растопырилась антенна. На антенне сидела сорока.
— Так восстановить обстановку! Я бы никогда не смог! — Володя изнывал от восторга. — А ты говоришь!
— Сохранились, наверное, старые карты, — сказал я. — Иначе как же…
Комбат засмеялся, махнул рукой:
— Где там, весь отпуск ухлопал.
Сколько раз пришлось ему приезжать сюда, бродить, выискивая заросшие следы на этих мокрых одичалых полях, вымерять шагами нашу тогдашнюю жизнь, извлекать день за днем, вспоминать каждого из нас.
— Да, работенка. Зачем-то, значит, понадобилось, — сказал я наугад.
— Тебе же и понадобилось, — сказал Володя. — Ведь это же здорово! Земляночку нашу определили!
— Наверное, были и другие причины.
— Совершенно верно, — сказал комбат. — Надо было кое-что выяснить.
Что-то опасное послышалось мне в его голосе, но никто ничего не заметил, Рязанцев подмигнул догадливо:
— Мемуары? Сознайся, а? Давно пора. Мы тебе поможем.
Комбат грубовато усмехнулся.
— Ты мне лучше помоги обои достать приличные. У тебя на комбинате связи сохранились.
— Не мемуары, песни о нас слагать надо, — Володя обвел рукой поле. — Какой участочек обороняли! Сколько всего? — он заглянул в карту. — Три плюс полтора… Четыре с половиной километра! Мамочки! Один батальон держал.
И какой батальон! Разве у нас был батальон? Слезы. Сколько нас было?
— На седьмое февраля, — сообщил комбат, — осталось сто сорок семь человек.
— Слыхали? Полтораста доходяг, дистрофиков! — все больше волнуясь, закричал Володя. — В чем душа держалась. И выстояли. Всю зиму выстояли! Невозможно! Я сам не верю! Один боец на тридцать метров. Сейчас заставь вас от снега тридцать метров траншей очистить — язык высунете. А тут изо дня в день… И это мы… Какие мы были… — Красным вспыхнули скулы его твердого лица, он попробовал улыбнуться. — Никому не объяснишь. И еще стрелять. Наступать! Дрова носили за два километра. Как мы выдержали все это… Ведь никто и не поверит теперь. Неужели это мы… — Губы его вдруг задрожали, расплылись, он пытался справиться с тем, что накатило, и не мог, отвернулся.
Рязанцев судорожно вздохнул, слезы стояли в его глазах:
— Потому что вера была.
— Одной веры мало. Комбат у нас был! С таким комбатом…
— Давай, давай, — сказал комбат.
— И дам! Ваша ирония тут ни к чему, — запальчиво отразил Володя. — Зачем мне подхалимничать? Думаете, я забыл, кто пайкой собственной разведчиков награждал? А каждую ночь все взводы обходил? Кто меня мордой в снег? Я уже совсем доходил. А он меня умыл, по щекам надавал, петь заставил. Может, я вам жизнью обязан.
— Не один ты, — ревниво сказал Рязанцев.
— Кто ж еще? Ты, что ли? Или ты? — комбат ткнул в меня пальцем, непонятно злясь и нервничая. Измятое лицо его дергалось, руки бессильно отмахивались, только глаза оставались неподвижными — жесткие, сощуренные, как тогда в прицеле над винтовкой, отобранной у меня, хреновой моей винтовкой с треснутой ложей. Он выстрелил, и сразу немцы подняли ответную пальбу, взвыли минами. Комбат не спеша передвинулся и опять пострелял. Это было в октябре, впервые он пришел к нам в окоп — фуражечка набекрень, сапожки начищены, — пижон, бобик, начальничек; взводный шел за ним и бубнил про приказ. Был такой приказ — без нужды не стрелять, чтобы не вызывать ответного огня. Ах, раз не стрелять — так не стрелять, нам еще спокойной. Мы, пригибаясь, шли за ними, матеря весь этот шухер, который он поднял. Комбат только посмеивался. «Без нужды, — повторял он, — так у вас же каждый день нужда, и малая, и большая. Что же это за война такая — не стрелять?» И все стрелял и дразнил немцев, пока и у нас не появилось злое озорство, то, чего так не хватало в нашей блокадной, угрюмой войне. Нет, он был отличный комбат.
— Да и я тоже вам обязан, — вырвалось у меня. — И может быть, больше других…
Не обращая внимания на его смешок, я что-то выкрикивал, захваченный общим волнением: сейчас прошлое было мне важнее настоящего. Здесь мы стали солдатами, которые дошли до Германии, а эта тщательно вычерченная карта, настойчивость, с какой он тащил нас сюда, может, всего лишь наивный замысел — услышать похвалы своих однополчан, — а теперь он нервничает и стыдится, что затеял все это…
Дождь измельчал, сыпал неслышной пылью. Позади остались залитые водой окопы Сазотова — наш передний край, наша лобовая броня. Мы шли на «аппендицит».