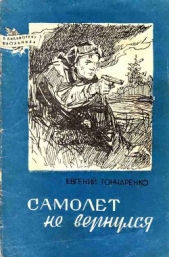Дикий мед

Дикий мед читать книгу онлайн
Леонид Первомайский принадлежит к старшему поколению украинских поэтов. Роман «Дикий мед» — первое его большое прозаическое произведение.
Роман Л. Первомайского необычайно широк по охвату событий и очень многолюден. Основные события романа развиваются во время великой битвы на Курской дуге, в июле 1943 года. Автор с одинаковой пристальностью вглядывается и в солдат, и в генералов, и во фронтовых журналистов, и в крестьян прифронтовой полосы. Первомайский свободно переносится в прошлое и будущее своих героев, действие многих сцен романа происходит в довоенные годы, многих — в послевоенные, и это не только не мешает единству впечатления, а, напротив, обогащает и усиливает его. В «Диком меде» рассказано о тех людях, которые прошли сквозь самые тяжелые испытания и выстояли. Рассказано с нежностью, с глубочайшим уважением к их трудной и сложной внутренней жизни. Кинга особенно сильна поэтичностью, лиризмом. Она напоминает песню — песню о величии человека, о верности, о подвиге, — недаром автор назвал ее не романом, а балладой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дубковский скептически фыркал в ладони, осторожно размазывая по лицу холодную воду. Мирных протирал очки перед тем, как на весь день нацепить их на нос.
— А чего ж мы не долбанем его так, чтоб он рассыпался? «Ну это, знаете, не нашего ума дело, начальству виднее…» Не то что дезинформирует, а просто не хочет с тобой говорить! Все, знаете, шуточки. «Воспользуйтесь, говорит, затишьем да отремонтируйте себе рот, у нас чудесный зубной врач при штабе. Дать вам записку?» Я на всякий случай записку взял. Говорят, зубной врач тут не такой уж специалист, зато красавица. Но, правда, к ней надо идти с целыми зубами. Заколдованный круг, ей-богу!
— Это все потому, что вы не умеете разговаривать с начальством.
Мирных наконец устроил очки на переносице и теперь сверкал золотом и протертым стеклом. Губы его тонко прорезывались на сером лице.
Пасеков, не глядя в его сторону, вертел головой и полоскал в кружке свою зубную щетку.
— Я стреляный воробей, — сказал Дубковский сквозь полотенце, которым старательно утирался. — Чем больше врут в оперативном отделе, тем ближе события.
— Пусть их врут сколько угодно, — сказал серьезно Пасеков. — Я чувствую события всей шкурой, как собака приближение землетрясения. Не будем терять драгоценное время, пошли завтракать!
В миске дымилась не очень хорошо помытая картошка в мундире.
— Нальем, друзья, по чарочке! — пропел Пасеков, перебрасывая длинные ноги через лавку и садясь за стол.
— Если бы, — деланно вздохнул непьющий Мирных.
Дубковский молча выхватил длинными темными пальцами горячую картофелину из миски и начал облупливать ее.
— У меня есть немножко, — признался я.
— Ну? — крикнул, показывая выщербленные зубы, Пасеков. — И ты, Пашенька, прячешь свое сокровище от старого друга, который погибает от жажды, как верблюд в Каракумах?
Пасеков положил руки на край стола ладонями вниз и с артистически разыгранным укором посмотрел на меня. Я отправился за своей фляжкой, хотя, признаться, почувствовал себя неловко: Пасеков раньше никогда не называл меня Пашенькой.
Странное чувство владело мной: словно я шел навстречу самому себе, видел впереди рядом с собой старшего политрука Дмитрия Пасекова, и чем ближе подходил к нему, тем все более непохожим казался он мне на сегодняшнего подполковника, который то паясничал, играл непонятную мне роль рубахи-парня, то смолкал и замыкался в себе, словно неожиданно до его сознания доходило все неприличие его странного паясничанья.
Когда Берестовский и Пасеков в камуфлированной «эмке» последними проскочили мост через Днепр, когда за спиною у них прогрохотал взрыв и вслед за тем вокруг воцарилась исполненная трагического напряжения тишина, они не знали, как не знали этого и все другие рядовые защитники Киева, что ужо несколько дней тому назад немецкие танковые дивизии, наступая с севера, от Гомеля и Стародуба, и с юга — из района Кременчуга, передовыми своими отрядами перехватили узкую горловину между Лохвицей и Лубнами и отрезали киевскую группировку от основных сил Красной Армии.
Произошла катастрофа — это было все, что они знали. Но ни размеров катастрофы, ни причин, ее вызвавших, ни значения ее они не представляли себе и не могли представить. А между тем на левом берегу Днепра клещами немецкого окружения были охвачены и много раз отрезаны одна от другой четыре советские армии с госпиталями, базами снабжения, приданными частями и подразделениями.
Армии не имели связи ни между собой, ни наверх — со штабом Юго-Западного фронта, который также попал в окружение, ни вниз — с дивизиями и корпусами, которые таким образом остались без оперативного руководства и вынуждены были действовать, если были способны к боевым действиям, на свой страх и риск.
Катастрофы могло бы и не быть, если бы войска заблаговременно были выведены из Киева, безнадежность положения которого с определенного времени была ясна для командования Юго-Западного направления.
11 сентября Военный совет Юго-Западного направления передал Верховному главнокомандующему доклад, в котором указывал на опасность окружения и на то, что промедление с отходом Юго-Западного фронта может повлечь за собой потерю войск и огромного количества материальных средств. В тот же день Сталин в разговоре с командующим Юго-Западным фронтом категорически возразил против отхода и приказал любой ценой удерживать Киев, хотя выход немецких войск с севера к Лохвице, а с юга к Хоролу — Лубнам создавал к тому времени неотвратимую угрозу уже не только для Киева, но и для всего Юго-Западного фронта.
Киевская катастрофа была одной из граничивших с преступлением ошибок Сталина, за которую пришлось расплачиваться не только армии, но и сотням тысяч и миллионам людей из гражданского населения, попавших в безжалостный механизм гитлеровской машины уничтожения.
14 сентября начальник штаба Юго-Западного фронта еще раз предупреждал Генеральный штаб о неизбежности катастрофы. Начальник Генерального штаба охарактеризовал его доклад как панический и снова потребовал «выполнять указания Сталина от 11 сентября» — то есть любой ценой удерживать Киев, хотя обстановка к этому времени резко изменилась к худшему.
На другой день — 15 сентября — немецкие танковые части соединились в районе Лохвицы.
16 сентября, когда окружение уже стало фактом, Военный совет Юго-Западного направления, вопреки указаниям Сталина, принял решение об общем отходе. Но командующий Юго-Западным фронтом не решился немедленно выполнить приказ, поскольку он противоречил указаниям Сталина. После долгих колебаний он снова связался со Ставкой и запросил, должен ли он выполнять приказ командования направления.
Только через сутки — в 11 часов 40 минут вечера 17 сентября — Ставка ответила, что Главное командование разрешает оставить Киев. Было уже поздно. Время, нужное для организованного отхода и перегруппировки войск, было истрачено на переговоры. Поздно ночью на 18 сентября командующий Юго-Западным фронтом отдал приказ армиям с боем выходить из окружения. Этот приказ дошел до всех армий, кроме 37-й, которая к этому времени уже не имела связи со штабом фронта.
37-я армия еще целые сутки, не зная обстановки в целом, продолжала упорную и безнадежную борьбу за украинскую столицу и только 19 сентября оставила город и начала пробиваться из окружения.
Уже 20 сентября соединения 37-й и 26-й армий были разрезаны на левом берегу на три части — закипели «котлы» окружения на северо-западе и на юго-востоке от Киева и к северу от Золотоноши. В таком же положении оказались 5-я и 21-я армии. Выход из окружения из-за отсутствия связи штаба фронта и штабов армий с войсками проходил неорганизованно, с трагическими потерями как в рядовом, так и в командном составе.
Берестовский сидел в машине с посеревшим лицом, погасшая трубка ненужно торчала у него во рту. Как случилось, что, проскочив последними через мост Евгении Бош, они очутились не в конце, а в середине непрерывного потока отступления, он не заметил. Возможно, шофер Бурачок, умело маневрируя, смог прорваться вперед, возможно, машины и люди, неизвестно откуда появляясь, догоняли их колонну, — оглядываясь назад, Берестовский уже не видел ее конца.
Сразу же за Дарницей Берестовский вытащил из полевой сумки и положил себе на колени толстую тетрадь в вонючей дерматиновой обложке. На второй день войны по дороге на фронт он купил эту тетрадь вместе с неуклюжей трубкой в новоград-волынской лавке и старательно вывел на ее серо-голубом форзаце: «23 июня 1941 года, Звягель».
Почему он написал старое название города, трудно сказать. Лежа в тени грузовика на своей новой шинели, Берестовский в Звягеле начал писать то, что должно было быть дневником, а в действительности было только собранием отрывочных записей, горьких, как дым его новой, необкуренной трубки. Он понимал, что, кроме него, никому его записи не нужны, но отказаться от них не мог.
Расстроенные колонны бойцов, простоволосые босые женщины с узлами, мужчины с чемоданами, дети с котомками за плечами, грузовики и автобусы, орудия и походные кухни медленно двигались по дороге сплошным потоком. Когда машина останавливалась, зажатая со всех сторон, Берестовский начинал писать в своей тетради большими неровными буквами, не обращая внимания на крик, ругань, гудки автомашин, крики «воздух!» и вой немецких самолетов над головой. Он чувствовал необходимость записать все, что проходило перед его глазами, спешил; карандаш крошился, чинить его было нечем… Берестовский удивленно замечал, что записывает совсем не то, что хочет записывать, словно какая-то неизвестная сила водит его рукой, диктует ему слова, далекие от всего, что он только что пережил и что продолжает разворачиваться вокруг него.