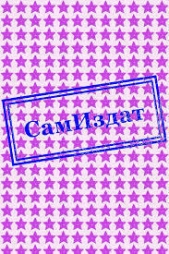Ленинградские тетради Алексея Дубравина

Ленинградские тетради Алексея Дубравина читать книгу онлайн
Эта книга о формировании юношеских характеров в годы Великой Отечественной войны, в дни защиты Ленинграда. Автор сам был участником обороны Ленинграда на протяжении всех 900 дней блокады города; в изображенных в повести событиях отразились его живые впечатления и размышления тех лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На улице морозило. За Невской заставой гремела канонада.
Ежась от холода, Юрка сказал:
— Знаешь, о чем я подумал? Людей уважать надо, а они, театралы, им льстят. Не угодно ли легкий водевильчик? В вашем районе обстрел? Заходите к нам, у нас сентиментальная идиллия.
— Не слишком сурово ты судишь?
— Сурово? Ленинградцы не нуждаются в бальзаме. Они жаждут правды о себе и своем времени.
Больше мы не говорили о театре.
Но удивительны повороты мысли! Сначала я стоял на Юркиных позициях, затем постепенно согласился с некоторыми доводами режиссера. А ночью, вспомнив разговор о пьесе, пришел к заключению, что та и другая точки зрения, в сущности говоря, односторонни. Люди нуждаются и в драме и в комедии. И больше того: один и тот же человек в запросах своих ничуть не постоянен. Сегодня он ищет героического, а завтра — задушевной лирики. Попробуй ограничить натуру Не-Добролюбова. Пашка начнет бунтовать и будет совершенно прав. Я тоже поступил бы, как Павел. Ибо ничто так не противопоказано человеку, как управление извне его сокровенными желаниями.
Так я уверил себя в мысли, что кретинизм не в том, что люди живут полнокровной жизнью и в душе волнуются всеми тревогами дня. Идиотство в том, что людям навязывают схему поведения: отрешись от человеческого, стань бездумным и послушным автоматом. Можно ли мириться с таким идиотизмом?
Мне хотелось обсудить эти вопросы с Не-Добролюбовым. Но Пашка сказал по телефону:
— Подожди немного. Не горит?
— Да нет, не горит.
— А у нас горит. Лепят снаряд за снарядом — эвакуируем вот раненых.

Бетховен, Пятая симфония
В один из осенних вечеров я слушал в филармонии симфонию Бетховена.
Кто-то говорил мне, что музыка Бетховена и вообще симфоническая музыка понятна только посвященным. Не спорю. Мне хотелось уяснить себе (я относил себя к профанам), так ли уж безнадежно далеки непосвященные от посвященных, что ровно ничего не смыслят в музыкальной классике. Так ли они тупы в самом деле?
Я заранее справил все дела по службе, вычистил брюки, побрился, подшил свежий подворотничок и со спокойной совестью отправился — до концерта оставалось полчаса.
У подъезда филармонии мне встретился военный. Он стоял на скользком тротуаре и пристально рассматривал всех проходивших. Кого-то, по-видимому, ждал. Когда я приблизился, он скользнул по мне недовольным взглядом и тотчас отвернулся. Я вспомнил Кайновского. «Кайновский и музыка? Нет, это невозможно. Впрочем, отчего же? Читал же он «Эстетику»!»
Я, обернулся и увидел почти театральную сценку. К нему подошла высокая женщина в меховом пальто, сдернула перчатку и протянула руку. Он со сдержанной улыбкой взял ее руку в свою, медленно поднес к посиневшим губам, холодно поцеловал. Сценка меня удивила: тогда не целовали женщинам рук, и я еще не видел, как это делают, разве что в кино. Но я успокоился: Кайновский — женоненавистник, до такого почтительного отношения к женщине он, безусловно, не возвысится. Значит, не он.
Около пяти минут осталось до начала, я поспешил раздеться и отыскать свое место в рядах.
В зале было прохладно, если не сказать свежо, но большинство самоотверженных слушателей, как и я, предпочло раздеться. Оркестранты сидели за пюпитрами и листали ноты. Настраивали скрипки. Я не успел осмотреться по-настоящему — вышел дирижер во фраке, взмахнул энергично палочкой, симфония началась.
Первые же звуки, торжественные и одновременно скорбные, заставили насторожиться, по спине побежали мурашки. Где-то я слышал такое — мелькнуло в сознании. А может, и не слышал. Тогда — ожидал услышать, именно вот эти трагические звуки, безжалостно тревожащие душу. Со мною бывало: увидишь что-нибудь впервые и знаешь, что видишь впервые, но почему-то кажется: увиденное уже было раньше. Так, вероятно, и с этой интродукцией: подумалось, что мне она знакома. Даже обстоятельства «припомнились» — будто слышал эту знобящую скорбь на площади Московского вокзала, когда единственный шальной снаряд обрушился на девочку с цветами…
К досаде всего зала, кто-то опоздал и теперь неосторожно пробирался между креслами. Моя соседка — пожилая женщина — нервно дернула плечами. Опоздавшие шумно прошли вперед, расположились в третьем ряду от оркестра. Это были тот самый военный и его дородная, украшенная желтым ожерельем спутница. Все-таки он оказался Кайновским. Я сидел в пятом ряду и видел его сальные волосы, темный от грязи воротник, подпиравший нестриженый затылок, и пепельно-серую нечисть волос, густо осыпавшую плечи. Женщина выглядела чище, но долго не могла освоиться в кресле. Ей непременно надо было поглазеть по сторонам, оценивающе рассмотреть, кто с кем пришел и как одет сегодня. Глядела она бесцеремонно, все от нее отворачивались.
Приход Кайновского сбил меня с мыслей, я начал сердиться и почувствовал прежнюю неприязнь к нему. Когда я, наконец, сосредоточился и вновь обрел способность пристально следить за музыкой, началась вторая часть симфонии.
Мои музыкальные познания были, в сущности, элементарны. Я знал всего-навсего лишь то, что в каждом симфоническом произведении должны развиваться, как правило, две основные темы — тема А и тема Б. Непрерывно сталкиваясь между собой и выступая каждый раз в различной гармонической окраске, они и составляют важнейшую ткань произведения, ее, так сказать, сюжет и содержание. Трудно на первых порах уловить эти темы, мысленно выделить одну и другую на постоянно волнующемся фоне то нарастающих, то замирающих звуков. Но если уж ты отыскал эти темы, если к ним прислушался, то нет ничего увлекательнее, чем следовать за ними до конца симфонии, до самого последнего аккорда.
Я «раскусил» симфонию к концу второй части, когда за глухими стонами басов услышал отчетливо-светлое пение скрипок.
В третьей части, наиболее быстрой по темпу, в беспрерывном повторении и нарастании звуков две найденные мною темы то и дело сталкивались и чередовались. За мигом тревожного шороха мелькало мгновение чудесного рассвета, за вздохами тяжкого страдания — звонкая трель певчей птицы над лугами. Эта изумительная трель, словно ликующий танец, может, утренний луч по росе или булькающий говор ручья, возвращалась опять и опять, пробиваясь сквозь шорохи ночи, и тогда казалось: вот она снова придет, снова услышишь пленительный звон, — жизнь великолепна, блажен, кто ее понимает…
Глядя Кайновскому в затылок, подумал: мрачная тема — его, звонкая, светлая — моя. Почему подумалось, не знаю, но с этого момента музыка симфонии обрела для меня отчетливо выраженный смысл. Я видел его плечи, засыпанные перхотью, видел, как прижимался он к женщине, а она отстраняла его, громко шепча и скабрезно улыбаясь, — и мне нестерпимо хотелось, чтоб в эту минуту вдруг проглянуло солнце.
Но солнце с его поднебесной песней на время заслонили тучи. Оркестр монотонно отбивал какие-то темные удары. Один, настойчивый и раздражающий, напомнил удары молотка, сердито забивающего гвозди. Несказанно долго ворчала тяжелая тема. Зато с каким блеском выбилась из-под нее и рассыпалась затем на звонкие осколки мелодия утра и утренней свежести. Впрочем, на секунду она удалилась, уступила место неприятной теме, но потом возвратилась снова и снова разлетелась в цветы и колокольчики. И так повторилось не однажды, пока она не победила.
Но это случилось уже в конце симфонии. Несколько раз она отступала, замирала, гасла, возвращалась откуда-то издалека, ширилась, полнилась, звенела, наконец возликовала безраздельно, утвердив себя всей торжествующей мощью оркестра.
Это было прекрасно. Теперь мне не хотелось ни видеть Кайновского, ни думать о нем. Я пережил незабываемый вечер.
И все же, полагаю, не будь передо мной Кайновского, я, очень возможно, не понял бы симфонии, во всяком случае едва ли ощутил бы ее напряженный драматизм.
А может, и нет. Быть может, Кайновский совсем ни при чем. Говорила музыка. Она, я убедился, умела говорить не только посвященным.