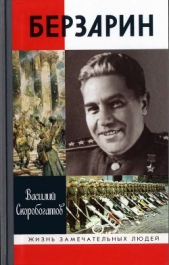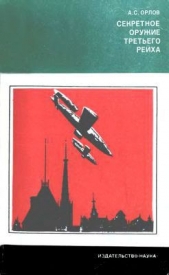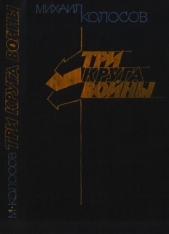Живая память

Живая память читать книгу онлайн
Выпуск роман-газеты посвящён 25-летию Победы. Сборник содержит рассказы писателей СССР, посвящённых событиям Великой Отечественной войны — на фронте и в тылу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Суровегин, похудевший, лицом одного цвета с бязевой наволочкой, лежал в дальнем углу. Место у него хорошее — под слюдяным окошечком, возле печурки. Он сразу узнал Мироновну, приподнялся на локте, но радости не показал, словно бы недоволен остался:
— Вы-то, бабуся, зачем сюда? Здесь место для военных.
Она опустилась на низенькую скамейку.
— Я сама стала — хоть шинель надевай. Сказывай, куда тебя ранило?
— В правое плечо.
— Это уже второй раз. А раньше-то куда — позабыла я?
— Раньше было — в левую ногу. Это еще в начале войны.
— Видишь! То в ногу, то в плечо. Издырявят всего насквозь. Неужто уберечься нельзя?
У нее вдруг затряслось сморщенное лицо, плечи. Крупные слезы стали падать на концы шали, серебрясь на темном ворсе.
— Вот это ни к чему, — помрачнел Анкудин. — Гляди, сколько раненых, один я, что ли. Если к каждому начнут приходить да плакать...
— Часовой-то тут у вас сердитый... Закричал на меня, затопал, ружьем замахнулся, — всхлипывая, оправдывалась старуха, а сама развертывала дрожащими руками узелок. Сморщенный жареный курчонок выпал у нее из рук, едва успела подхватить. Она потянулась к дверце тумбочки. — Сюда, что ли, прикажешь положить?..
Суровегин быстро захлопнул дверцу.
— Вы эти глупости, бабуся, оставьте. Самой пригодится скушать.
— Я не голодная. Да и зубов нет, чтобы косточки грызть.
— Ну, а для моих зубов слишком тонка цыплячья кость. Перестаньте конфузить меня перед остальными ранеными.
Но никакого конфуза не было. Правда, на них смотрели со всех коек; лица были любопытные, отражали молчаливую душевную ласку.
Как бы отвечая на эти взгляды, Мироновна улыбнулась покорной старушечьей улыбкой, сказала Анкудину, словно малому:
— Ну, давай пополам. Вот я на свою, долю крылышко отломаю, а для тебя — ножку. Давай вместе закусывать.
Склонив голову набок, она с трудом жевала обломками зубов.
— Гляди-ко, как хорошо. Бери.
И Суровегин, неуверенно усмехнувшись, потянулся за едой. Вытирая губы полотенцем, он говорил:
— Закончим, бабуся, войну, — как домой вертаться буду, обязательно загляну к тебе: по хозяйству кое-что укомплектую за всю твою заботу.
— И долго ждать тебя?
— Теперь уж, думаю, скоро. Победой пахнет в воздухе. Это не один я чую.
— Примета, что ли, какая есть?
— Есть, бабуля, много всяких примет.
Помолчав сколько надо, Ольга Мироновна проговорила тихо:
— Вестник ты мой добрый. Все-то ты знаешь, на все ответ найдешь... Сбылись бы скорее твои слова.
Старший сержант кивал круглой, коротко стриженной головой:
— Если весь народ говорит, непременно сбудется эта правда, куда же ей деваться.
Андрей Блинов. АЛЕШКИНА ЛЕГЕНДА
Ту землю я никогда не видела, но скучаю по ней давно и больно. Она не раз снилась мне, как чаша, залитая солнцем. Края чаши — горизонт, а на самом дне — густой белый туман. Там буйно цвели сливы. Откуда пришли в мои сны эти сливы, я и подумать не могла. Просто снились — и все. В белом тумане цветения ничего не видно: ни земли, ни селений, ни людей. Лишь дороги змеятся среди белого разлива. И только они говорят, что страна обитаема: дороги — это ведь артерии в живом теле.
И во сне я искала Алешку...
И во сне я не могла представить его мертвым и потому искала живым.
Когда-то я мечтала увидать ту страну наяву, и, наверное, потому она снилась мне. Шли годы, и я перестала надеяться, что увижу ее.
Но жизнь оказалась ко мне доброй...
— Мария Андреевна, Мария Андреевна...
Голоса с улицы настойчиво звали меня. Я подошла к окну.
У крыльца стоял мотоцикл, и Дима, стащив с головы кожаный шлем, что-то объяснял собравшимся ребятишкам. Я не слышала, когда мотоцикл подкатил к дому. Да и что в том удивительного, что не слышала. В последние дни я жила только собой и, будто выключенная из жизни, не замечала, что происходило вокруг. День и ночь, свет и тень, шум и тишина — все это я разучилась, казалось, распознавать, все для меня сливалось в одно мое внутреннее состояние — состояние напряженного ожидания.
Я готовилась к поездке в ту страну, которая приходила во сне, страну, залитую цветом сливы, и все ждала, что случится что-то непредвиденное, и я никуда не поеду. И даже когда в руках моих была туристская путевка и в паспорте стоял штамп на право выезда, я еще не верила, что поеду. И вот уже Дима стоял у крыльца, чтобы отвезти меня на станцию, а я все еще не верила, что увижусь с той страной, из которой Алешка не вернулся.
— Мам, — сказал Дима застенчиво, — не опоздаем? Папу я уже отвез.
Дима поглядел на меня своими крупными, как у Алешки, и голубыми, как у меня, глазами из-под золотистых, отцовских, бровей. Лицо у него смуглое — мое, волосы — спелая рожь — отцовские. Пушок усов на губе делал Диму непривычно взрослым.
Он, наверно, догадывался о моем состоянии, и потому взгляд его был сочувствующий, понимающий. Он ведь все знал о своем отце, но только никогда его не видел. Тот, кого он называл сейчас папой, был ему отчимом, и это он тоже знал.
Я уселась в коляске, позабыв даже подумать, что всегда не любила и опасалась ездить в ней. До меня все происходящее сейчас доходило, как свет сквозь толщу воды. И только когда загрохотал Димин мотоцикл, затряслась, задрожала зыбкая коляска, я поняла, поверила, что еду, что все это не сон и не бред, и я буду в той стране, из которой он не пришел.
И вдруг все стало реальным: сельская улица с улетающими назад тополями; и моя школа на бугре, за селом, двухэтажное каменное здание с широкими окнами, все в зарослях акаций; и мельница с глинистой красной насыпью и зеленоватым прудом; и холмы за селом, покрытые желтеющими хлебами, а за холмами прыгающий горизонт в солнечном июльском мареве; и луга в цвету; и пестрое стадо на пригорке. Мне все это виделось с чеканной ясностью, будто с самолета, и в то же время ничто не вызывало никаких ассоциаций — виделось, и все.
И вот лес... Дорога врезалась в него, и если смотреть издали, она, как бы завязнув в нем, будто проваливалась сквозь землю.
В то далекое утро весны сорок четвертого года дорога также терялась в лесу, с разбегу завязнув в нем. Лес был еще голый, насквозь просвеченный ранним солнцем.
По дороге только что прошли грузовики и танки, и она была вся измята и исковеркана.
Алешка шел по не оттаявшему еще полю, покрытому тонкой ледяной корочкой, и корочка, как слюда, блестела на солнце.
С крыльца своего дома я видела, как он шел, как вместе с дорогой исчез в лесу. И сразу не стало ни его, ни дороги.
Димин мотоцикл врезался в лес, деревья расступились перед ним и перед дорогой. И они расступались после каждого поворота, и расступались до тех пор, пока впереди снова не показалось поле.
Вскоре после того, как Дима развернулся на привокзальной площади, подошел поезд.
— Ну вот, — сказал мой муж, Павел Степанович, когда суета чуть поутихла, — вот ты и едешь...
Он, наверно, хотел сказать: «Ты давно ждала этого», — но не сказал. Он был тактичным человеком и никогда ничем не выдавал своей ревности к прошлому, к Алешке, к памяти о нем, и меня любил и Диму, сына Алешки.
Поезд тронулся. Перед окном проплыло лицо Павла Степановича, соломенные вихры Димы. Ветер трепал их, и они казались пучком желтых язычков пламени в ярком солнечном сиянии.
У Алешки были такие же волосы.
Когда в то утро он вышел на крыльцо с автоматом на груди и с пилоткой в руке, ветер подхватил его волосы, раздул, и они заметались, как язычки пламени на ярком солнце, бледно-золотистые, но яростные в своем стремлении сравняться с сиянием дня.
Пришел он в дом чужим и неведомым, а ушел мужем и отцом, непонятно близким и непонятно далеким.
А было это так…