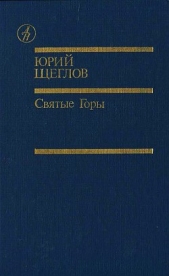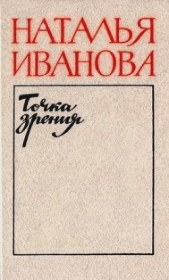Святые Горы (сборник)
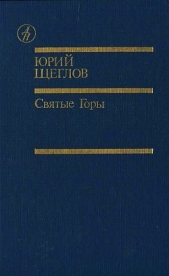
Святые Горы (сборник) читать книгу онлайн
В книгу Ю. Щеглова вошли произведения, различные по тематике. Повесть «Пани Юлишка» о первых днях войны, о простой женщине, протестующей против фашизма, дающей отпор оккупантам. О гражданском становлении личности, о юношеской любви повесть «Поездка в степь», герой которой впервые сталкивается с неизвестным ему ранее кругом проблем. Пушкинской теме посвящены исторические повествования «Небесная душа» и «Святые Горы», в которых выведен широкий круг персонажей, имеющих непосредственное отношение к событиям последних дней жизни поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ничего я на тебя не пишу, — отрезал Дежурин, — Что часто выпимши, так факт. Человека обидишь — не сморгнешь. Матерщинник отчаянный. При бабах.
Эк его занесло! Доиграется, естествоиспытатель.
— Правильно, Петрович, — поддержал его Муранов. — Он матерщинник первостатейный.
— Значит, я вам плохой, значит, я вам не гожусь…
— Нет — ты не плохой и ты нам годишься, но недостаток у тебя есть или нет? Не ангел ты, — веско припечатал Муранов.
— А я надеялся: Цюрюпкин — ангел, когда вас из дерьма немецкого за уши тащил. Ну, вот что…
— Не ссорьтесь, хлопцы. Мы ж беседуем, выпиваем, закусываем, — вмешался в перепалку Воловенко. — Сердитый ты, Муранов, поперек не пройди, но и в Цюрюпкина вникни. Истину он говорит: ты как мундир надел — ой-ей-ей. Пусть председатель излагает.
— Практика свидетель — правду-матку свой мужик на собрании сфинтифлюфит, потому, ежели что, я ему коня не дам, впрочем, которого и нет.
Ну и ну! Вот тебе степная грамматика, вот тебе и словарный фонд. Где тут базис, где надстройка? Откуда ж такое — сфинтифлюфит? От финтить, что ли?
— Спрашиваю мужиков — пора сеять? Ух, ныне земля, как баба ядреная на перине просыпается, дыхает грудями. А соски…
— Ты не разоряйся, — прикрикнул на него Воловенко, — с сосками. Тут хозяйка, женщина.
Трезв, собака, и осадить умеет. Не то что я. Ни шофера, ни бурмастера при Елене осадить не мог. Ну ладно, научусь.
И тут, когда центробежная сила логики должна была вовлечь в разговор неведомых мужиков из Перми и Нытвы, за окном сперва глухо затарахтел, потом затрещал и, наконец, зафыркал мотоцикл. Несколько раз — с паузой — отфыркнувшись, он умолк, подчеркивая своим молчанием недавно трескуче разорванную, а теперь прочно сросшуюся, плотную тишину сентябрьского, но едва ли не весеннего — пронзительно свежего вечера. За дверями что-то громыхнуло, свалилось, и Самураиха, полувыйдя из-за стола навстречу гостям, попала в объятия к Верке, за которой в довольно ухарской позе коробейника — подбоченясь одной рукой — возник на пороге, вероятно, ее жених Василек. Я Верку никогда такой не видел — шумной, удивленной и весьма светской. Описать блестящую внешность этой пары выше моих возможностей — на Крещатике, на улице Горького, на Невском одевались скромнее. Однако хоть какое-то представление об их нарядах дать необходимо, поэтому начнем с чего попроще, снизу — от сапог гармошкой, зеркальных, чуть покрытых серебром пыли, от красных туфель с перепонкой, и чулок — пусть не шелковых, но совершенно модных, с дырчатыми стрелками, от бежевых брюк из трико, навыпуск, и плиссированной юбки в шотландскую клетку, зеленую, — от всего этого галантерейного, выглаженного, сверкающего великолепия перейдем к не менее сверкающему, не менее великолепному верху — куртке на молниях, из дорогого шевро, фланелевой рубахе под ней, тоже в клетку, но в коричневую, и к легкомысленной, в рюшечках, почти прозрачно-голубой блузке с перламутровыми пуговицами, на которую была накинута кофта, шерстяная, машинной вязки и тоже красного цвета. Желтая газовая косынка романтично овевала Веркину шею, а Василек держал в свободной руке кепку, не какую-нибудь стандартную, деревенскую: шесть листков, одна заклепка, но индивидуального пошива, с козырьком-аэродромом, из серо-черного букле, с алой — я потом пригляделся — искрой, и держал он ее, то есть кепку, на манер дворянской фуражки — точно Аполлон Мурзавец-кий при объяснении со своей тантой в спектакле Малого театра «Волки и овцы», который мы с отцом смотрели во время его достопамятной командировки в Москву. Аполлоша, конечно, был пьяница, пакостник и ничтожный фатишка, Василек же — по синим глубоким глазам угадывалось — парень порядочный, негромкий и работящий. Между тем кепку и фуражку они держали одинаково — как царские офицеры — на локте.
— Ну Верка, ну Верка — молодчина! — воскликнул Воловенко, пораженный ее туалетом. — Вот это — да! Вот это — я понимаю! Вот это — шик модерн! Моя помощница, — обратился он к Цюрюпкину, — не хужее, бачишь, артистки, а вкалывает, дай боже, за двоих — и математику вызубрила на пять, и тригонометрию, и рисует прилично. Способная, чертяка!
— А, будто она мне чужая, — отмахнулся Цюрюпкин. — Самая ленивая что ни на есть на селе, копеечница. Мне комсорг Бурда скоко разов на нее жалился…
Но Воловенко не обратил внимания на его сердитую реплику:
— Ты познакомь нас, познакомь с женихом, Верка,
— Вася, — тогда солидно произнес Василек и, перебросив кепку справа налево, подал нам поочередно руку: — Вася.
Ладонь была мозолистая, жесткая и какая-то бескомпромиссная.
— Сидайте, ребята. Самураиха, гони вареники, — распорядился Воловенко.
— Ой, Александр Константинович, мы не пьем, мы в рот не берем, мы токо красненького, слабенького с собой привезли. Мы токо танцуем бальные и больше ничего себе не позволяем.
Василек вынул из бокового кармана черную бутылку с ядовито-зеленой наклейкой, на которой толстыми бордовыми буквами было начертано: «Вермут». А чуть ниже и мельче: «рожевый», что означало — розовый
Я и Дежурин уступили им свое место. Самураиха заметалась взад-вперед, на ходу меняя посуду, а в кухонном закутке затеплился бело-желтый с красным основанием язычок в слюдяном окошечке керогаза, на который она поставила разогревать добавочную порцию вареников. Поднявшаяся суета понемногу вытеснила нас в сени, а оттуда мы вышли на крыльцо — глотнуть свежего воздуха.
30
На ясном прозрачном до гулкости небе желтым пламенем пылала луна в окружении россыпей высоких — с булавочную головку — звезд. Они лучились раскаленно-белым — бенгальским — огнем, но не вспыхивали, не трещали и не гасли, как он, а настойчиво и мерно горели, отчего при продолжительном взгляде на них внутри возникала странная напряженность. Луна и звезды напоминали исполинскую, фантастических размеров диадему, лежащую посередине черной бархатной подушки. Эмалевую поверхность неба украшал абстрактный узор, без четких границ, без симметрии, без ритмов, который не имел ничего общего ни с чем, нигде не начинался и нигде не кончался, но это был все-таки узор, именно узор, а не что-нибудь иное — беспорядочное или случайное.
Кое-где, особенно на склонах, звезды высыпали гуще. Над горизонтом они сливались в обширные вытянутые светящиеся волны, а затем растворялись, неуловимо переходя в матовую текучую полосу, окаймляющую степь. Там, где совсем отсутствовали звезды или они были одиночными, кристаллически — не черным, нет, а сапфирово-черным — блестели освобожденные участки свода. Собственно, блеска не было, да и не могло быть, но поверхности, отъединенные друг от друга туманными скоплениями, обладали столь звучным цветом, и он, этот цвет, был настолько глубоким, мощным и торжественным, что казался покрытым слоем эмали, то есть он таил в своих недрах возможность драгоценного блеска, он почти блестел, во всяком случае чудилось, что вот-вот он блеснет, взорвется изнутри этим блеском, божественно засияет и будет сиять так вечно. Что-то скрывалось за чугунно тяжелым небесным сводом. Он был погружен в какое-то яркое свечение, которое существовало в изначальном пространстве само по себе.
Взгляд терялся в бесконечной искусной путанице звездного узора, проваливался в пучину неба и, не в силах возвратиться назад, проникал все дальше и дальше в его бездны — за одной жемчужной россыпью накатывала новая, а за ней другая, третья, четвертая и потом еще и еще, и абсолютно не ощущалось, что глаз скользит уже по виденному однажды, — таким поразительным свойством обладали горящие в сферической пустоте миры, на которые можно было смотреть и смотреть беспрестанно, не соскучившись, не уставая и не испытывая пресыщения, которое, естественно, испытывает человек, когда ему несколько раз показывают пусть тонкий, изящный, но прекрасно изученный им рисунок.
— Не худо бы проветриться, — пробормотал Дежурин, сшибая меня с моего космического пьедестала на грешную землю.