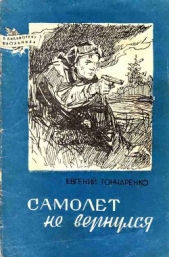Дикий мед

Дикий мед читать книгу онлайн
Леонид Первомайский принадлежит к старшему поколению украинских поэтов. Роман «Дикий мед» — первое его большое прозаическое произведение.
Роман Л. Первомайского необычайно широк по охвату событий и очень многолюден. Основные события романа развиваются во время великой битвы на Курской дуге, в июле 1943 года. Автор с одинаковой пристальностью вглядывается и в солдат, и в генералов, и во фронтовых журналистов, и в крестьян прифронтовой полосы. Первомайский свободно переносится в прошлое и будущее своих героев, действие многих сцен романа происходит в довоенные годы, многих — в послевоенные, и это не только не мешает единству впечатления, а, напротив, обогащает и усиливает его. В «Диком меде» рассказано о тех людях, которые прошли сквозь самые тяжелые испытания и выстояли. Рассказано с нежностью, с глубочайшим уважением к их трудной и сложной внутренней жизни. Кинга особенно сильна поэтичностью, лиризмом. Она напоминает песню — песню о величии человека, о верности, о подвиге, — недаром автор назвал ее не романом, а балладой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Допустим, что освобождает, что ты свободен, Лажечников. Почему же ты не чувствуешь себя свободным, не чувствуешь в себе той свободы, которую чувствует Ковальчук, — если он чувствует ее? И в чем эта свобода? Неужели только в том, чтобы, встретив Олю Ненашко с ее ненасытной, первобытной жаждой жизни, с ее круглым, как у окуня, ротиком, который хватает живца, как только увидит, — чтобы, встретив Олю Ненашко, ты потерял свою свободу, лишился ее?
И вдруг Лажечников понял, что в его несвободе, так, как он ее понимает, больше свободы, чем в чувствах и поступках Ковальчука, — он свободен сдерживать, укрощать, ограничивать себя, свое сердце, свою душу, его несвобода дает ему силу быть человеком, а свобода Ковальчука оборачивается для военврача ярмом, которое он бессилен сбросить.
Они остановились и стояли рядом на узкой тропинке. Лажечников хотел спросить, тяжело ли было Варваре днем на плацдарме, но это могло стать началом разговора, конца которого нельзя было предвидеть, — и он не спросил. Варвара и хотела и боялась снова услышать голос Лажечникова. Кому-то надо было нарушить молчание, и, чтобы предупредить его, она сказала:
— Идемте, я не устала.
И снова тьма заколыхалась над тропинкой, и снова пересекали ее ветви и корни, снова протягивала Варвара руку вперед, и пригибалась, и спешила… Где-то очень далеко вздохнула пушка, прошелестел над лесом, тронув листву, ветер, блеснул фосфорический свет на поляне, струи его заколебались между черными стволами деревьев и поплыли вверх. Месяц уже взошел, его не было видно, но оттенок неба над поляной предупреждал: сейчас он их увидит.
Они не остановились на поляне.
«Как хорошо, что мы снова идем и что я не дала ему заговорить, — думала Варвара. — Бог знает, что могло бы быть, если б он сказал слово… А может, не надо было этого бояться? Может, надо было, чтоб он сказал? Но ведь я и так знаю, и он тоже знает… И все это теперь не имеет никакого значения, потому что эта ночь, и тропинка, и невидимый месяц за лесом, и даже вздох пушки где-то далеко-далеко — это счастье, которого могло бы и не быть.
Всего этого могло бы и не быть, если б я не встретила его, — вот в чем состояла теперь главная мысль Варвары. — Всем, что теперь происходит со мною и во мне, я обязана этой встрече. Если б ее не было, этой встречи, я сфотографировала бы подбитый танк, вернулась в корреспондентский хутор, проявила, отпечатала и отдала снимки генералу Савичеву и забыла бы об этой поездке, как о многих других поездках. Но я встретила его — и теперь уже ничего не смогу забыть. Все будет жить во мне: вчерашний ливень, и сидение в окопе бронебойщиков, и как я лежала в воронке и ногами выталкивала из нее мертвого немца, и Гулоян, и Шрайбман. Я никогда ничего не забуду. Это теперь мое богатство, и чувствовать это богатство дал мне он.
Почему именно он? Я совсем не знаю его, случайно встретила, могла бы встретить кого-нибудь другого. Значит, все, что со мной творится, идет от меня, а не от него? Значит, я еще способна и чувствовать, и помнить, и быть счастливой? Почему встречаешь человека, совсем чужого тебе, о существовании которого еще день тому назад ты ничего не знал, и он становится тебе близким и родным? Это — чудо. Со мной уже было это чудо когда-то давно… Потом жизнь моя без чуда была тяжкой и темной. А теперь чудо снова живет во мне и владеет мной, и я благодарна человеку, о котором еще вчера ничего не знала, благодарна за то, что он сотворил со мной это чудо. Чудо счастья. Чудо жизни».
За деревьями уже слышались голоса солдат. Лажечников и Варвара обходили пушки, грузовики, темные штабеля каких-то ящиков. Лажечников шел уже впереди, часовые узнавали его голос, ставший теперь начальственным, деловым голосом, темнота вдруг расступилась, открыв лунное небо, — и они вышли на поляну.
— Ужинать будем? — Лажечников остановился перед ступеньками, ведшими в блиндаж, и голос его снова прозвучал осторожно и тихо.
Она не успела ответить — подошел высокий офицер, на ходу окликая Лажечникова:
— Товарищ полковник? Начштадив на проводе… Что с генералом?
Луна заливала поляну, по которой от блиндажа к блиндажу ходили люди, тени двигались вслед за ними по высветленной луной, словно политой известью земле. Варвара увидела, как Лажечников резко шагнул в сторону от нее и пошел рядом с офицером, который спрашивал о Костецком. Она услыхала окончание фразы:
— …нового командира дивизии…
Еще несколько офицеров подошли к Лажечникову, но это было далеко от нее, и она уже не услышала, о чем они начали говорить.
Варвара постояла минутку у блиндажа, не зная, что ей делать и куда направиться теперь. О том, чтоб выбраться отсюда ночью, нечего и думать. Надо ждать до утра, — может, будет какая-нибудь машина… Она очень устала… Ну что ж, она и так опоздала с этими снимками. Савичев будет недоволен, но что она может поделать?
Варвара нащупала фотоаппарат на боку. «Все в порядке. Как хорошо, что ничего не было сказано. Передремлю остаток ночи где-нибудь в кустах, утром будет видно, что делать…» Ей вдруг сделалось грустно, словно она потеряла что-то.
Земля была холодная и сырая, кто-то приготовил себе место для сна, настелил под кустом тонких веток и присыпал их травой и листьями. Варвара натолкнулась на настил случайно, блуждая между деревьями. Лучшего и желать нельзя было. Все равно она не заснет, только бы отдохнуть, смежить глаза на минутку… Куст орешника нависал над ее жесткой и неудобной постелью, белые пятна лунного света блуждали по лицу. Варвара лежала на спине, прикрыв фотоаппарат обеими руками, ей казалось, что так она может вернуть себе утраченное спокойствие; теперь это было единственное, что связывало ее с прошлым, от которого она так легко отреклась. Она чувствовала себя дважды преступницей. Лесными своими мыслями она так далеко отошла от того, чего не имела права забывать. Еще днем, ползая под огнем у танка, и лежа в воронке, и таща на себе раненого Гулояна, она все помнила, потому что светило солнце и ей стыдно было бы при его неподкупном горячем свете забыть. Но стоило упасть темноте на землю, стоило ей очутиться на лесной узкой тропинке, как она все забыла.
«Преступление, преступление, — шептала Варвара, целуя потертый грязный футляр Сашиного фотоаппарата. — Ты не должен прощать… Преступление…»
Она чувствовала себя преступницей не только перед Сашей, которого представляла себе живым, невозвратно далеким, но живым, способным судить, прощать или не прощать, но и перед Лажечниковым. Не перед тем, большим, тихим и, казалось, добрым Лажечниковым, что обнял ее глазами на берегу, когда она привела раненого Гулояна, а потом шел вместе с нею шаг за шагом, тропинкой через темный лес, а перед полковником Лажечниковым, который скорчившись сидел у стереотрубы в узкой траншее на кукурузном поле, перед тем собранным, волевым командиром, который отдавал приказы на командном пункте капитана Жука, перед занятым и озабоченным командиром полка, который забыл о ней сразу же, как только ему сказали, что звонит начальник штаба дивизии. Она не имеет права на его спокойствие, на его мужество и доброту. Если и он чувствует то, что чувствует она, ошибочно думала Варвара, он неминуемо должен отрывать часть своего спокойствия, доброты и мужества у того дела, которое он делает, которое должен делать не для себя и не для нее, а для того, что больше, чем она и чем он, и что единственно имеет теперь право на человеческую душу.
«И я должна тоже отдавать всю себя, — сказала себе Варвара. — Как отдают себя Гулоян и Костецкий, как отдал себя Шрайбман — до конца… Это я оставляю себе, а все остальное — преступление, преступление, преступление…»
Мысли утомили ее, это была спасительная усталость — она успокаивала. Варвара больше не думала ни о чем и ни о ком, но заснуть не могла. Она лежала в каком-то странном оцепенении, не могла шевельнуться, на закрытые веки ее падал белый лунный свет, и все, что пережила она с той минуты, как впервые попала в этот лес и заблудилась в нем, снова и снова проходило перед нею, запечатленное в памяти навсегда.