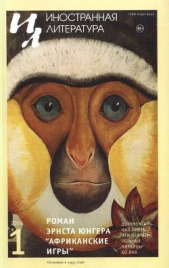После десятого класса

После десятого класса читать книгу онлайн
В книгу вошли ранее издававшиеся повести Вадима Инфантьева: "После десятого класса" - о Великой Отечественной войне и "Под звездами балканскими" - о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Послесловие о Вадиме Инфантьеве его книгах написано
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет, пулей на двести шагов.
— Брешешь. На двести из шомполки? Мол-чать. Смирно! Размахался ружжом, что метлой на майдане. Своих переколешь!
Поскольку офицеров и унтеров еще не было, Николов разбивал прибывающих добровольцев на роты и взводы, назначал по собственному наитию старших. Исправник Иванов на свой страх и риск выдал сотню ружей Шаспо без патронов. Для занятий Николов поначалу выпросил у командиров стоящих в Кишиневе частей унтеров. Но они могли заниматься только по вечерам и воскресеньям, не получая при этом никакого вознаграждения, были усталыми и смотрели на занятия как на лишнюю обузу. А потом и их отозвали в свои части.
Тогда на помощь снова пришел Иванов. Он собрал живущих в Кишиневе и округе старых отставных фельдфебелей и унтер-офицеров и чисто по-человечески попросил их помочь в обучении болгар, обещая как-нибудь и когда-нибудь их за это вознаградить. То были седые, покалеченные вояки николаевского времени. Они пропустили мимо ушей обещания исправника, пошептались между собой и, построившись во фрунт, дружно рявкнули:
— Для братушек болгар рады стараться, ваш ско-родь!
И так ретиво взялись за дело, что стон пошел по всему Армянскому подворью. Староста Хаджихристов только за голову хватался. Единственное, что запретил Николов,— это рукоприкладство, а на жалобы своих соотечественников отвечал суворовской и казацкой поговорками: «Тяжело в ученье — легко в бою», «Терпи, казак, атаманом будешь». Иногда пояснял особенно разошедшемуся жалобщику:
— Из тебя за месяц можно выжать несколько ведер пота, и ничего с тобой не сделается, а крови в тебе и полведра не наберется. Сам считай, что лучше пролить. Марш на занятия!
...Хотелось пить. Николов сел на топчане и крикнул:
— Вылчев, кружку воды мне!
На пороге вырос писарь, оторопело посмотрел на своего начальника и показал глазами в угол:
— А это? Неужели все выпили?
Николов только сейчас заметил в углу корзину. Писарь поставил ее на стол. Под чистой холстиной были разная вкусная снедь, бутылка вина и запотелая кринка, завязанная белой тряпицей, под которой торчала записка:
«Любезный друг наш Райчо Николаевич!
Мы понимаем, как тебе недосуг. Два раза проскакал мимо наших окон и не обернулся. Урви минутку, загляни хоть за полночь. Соскучились по тебе. Как Катюша? Сашенька, наверное, уже разговорами одолевает — четвертый годик пошел. Наша Ксюша с мужем из Екате-ринодара шлют Вам привет. Ждем Вас с нетерпением. Бояринцевы».
«Какой же я все-таки свинья,— подумал Николов.— Забыл навестить этих добрых людей — крестных отца и мать Сашеньки. Да и Катину тетку тоже забыл и не знаю, жива ли она. Давно от нее писем не было. И Кате давно сам не писал...» Конечно, письмо письмом, а Кате деньги нужны, но Райчо и сам не знает, какое жалованье и где будет получать. Штаб, вероятней всего, сформируется в Румынии, и Николов получит деньги, когда доставит туда добровольцев из Кишинева.
За последние два года Райчо побыл с Катей и Сашенькой от силы две недели, вернувшись из Сербии измотанным, оглохшим и заикающимся. Хорошо еще, что быстро поправился и получил назначение в 56-й Житомирский пехотный полк. Катя просила взять ее с Сашенькой с собой в Бендеры, но Россия уже объявила мобилизацию, полк в любой момент мог уйти. После удавалось заскакивать в Комрат, где жила Катя у своей матери, на день-два, и все.
Получив телеграмму от Иванова, отпросившись у полкового командира на десять суток, Николов приехал в Кишинев и увидел на Армянском подворье удручающую картину. Добровольцы голодали. Работы для них не было, средств ниоткуда не поступало. Об обращении к богатым горожанам нечего было и думать...
Лавочники разнюхали, как их ловко провел студент-медик. Они было возбудили судебное дело против Коваль-Жеребенко за мошенничество и вымогательство. Но студент был не дурак и заявил следователю, что на самом деле видел в микроскоп подозрительные бациллы, посоветовал исправнику изъять зараженные продукты. Виденных им микробов он зарисовал, а штаммы уничтожил, боясь распространения заразы.
Студент заявил, что передал реквизированное продовольствие голодающим ополченцам, но при этом сам лично проследил, чтоб все было прокипячено и прожарено, даже селедка. Коваль-Жеребенко попросил следователя занести в протокол все его показания и добавил, что сам напишет покаянное письмо генерал-губернатору о том, что вовремя не доложил о своих подозрениях в зараженности продуктов. К протоколу следователя студент приложил зарисовки виденных им бацилл, которые, как он позже признался Николову, перерисовал из учебника.
После допроса следователь помчался к прокурору и вместе с ним к городскому голове. Тот срочно вызвал исправника и всех городских врачей. Иванов, заранее предупрежденный студентом, заявил, что в лавках, трактирах и ресторанах такая грязища, что ежели нагрянет комиссия, то наверняка обнаружит какую-нибудь заразу. Врачи добавили, что в ответ на следствие приедут несколько комиссий, а возможно, и комиссия по высочайшему повелению, поскольку в Кишиневе дислоцируется целая армия, а в прошлом году на юге Малороссии наблюдались вспышки холеры. Комиссии найдут не только дизентерию и глистов, но и заразу похуже, и тогда никому из городского начальства несдобровать.
После этого городской голова вызвал к себе истцов — лавочников, обрисовал им создавшееся положение и заявил:
— Вот так, господа купцы. Нагрянут четыре комиссии! И какие! Достанется и мне, и исправнику, и врачам, а вы, несомненно, смените свою толстую мошну, раздутую за время пребывания в городе войск, на холщовую суму и пойдете со своими чадами по России с протянутой рукой.
На следующий день истцы попросили свои жалобы обратно, а Иванов сказал студенту:
— Вот что, братец, пока не поздно, уезжай подальше. Я не хочу обнаружить в переулке твое мертвое тело или тушить горящий дом твоего дядюшки.
Коваль-Жеребенко ответил, что не хочет зла своему дяде и очень боится погибнуть от удара в спину, но турецких пуль не боится, и поселился на Армянском подворье.
Трофеев студента тогда хватило ненадолго, доставать провиант было неоткуда. Иванов тянул до последнего дня, с ужасом думая, что придется распускать добровольцев и самому же потом возиться, как исправнику, с отчаявшимися от голода и лишений людьми.
После мучительных колебаний Николов отправил письмо в Петербург, своей давней покровительнице Александре Михайловне, что опекала его еще в стенах кадетского корпуса. Он писал, что ни за что бы не унизился просьбой для себя, но голодают около тысячи болгар-добровольцев, все возможные средства исчерпаны, остается только протягивать руку за помощью.
Через двое суток Николов получил перевод на триста рублей, не веря в такую скоропалительность почты, но еще больше удивился, прочитав сопроводительное письмо:
«Друг Райчо!
Только по слухам понял, что в Кишиневе собирают болгар-добровольцев, и ежели ты после Гредетины остался цел и не искалечен, как я, то ты должен быть в Кишиневе и наверняка вместе со своими сородичами пребываешь в нужде. Посылаю наугад. Риск не велик — почтовые расходы в оба конца. Большей суммы послать не могу. Мой весьма дорогой папаша выделил крохи, хотя после Сербии везде хвастался мною и превратил чуть ли не в монстра. Скриплю деревяшкой, гавкаю старым псом. Ежели станет лучше, и таким пойду с тобой в дело.
Твой А. Незагоров».
«Триста рублей! Это можно кормить почти пять дней! — подумал Николов, спеша к Иванову.-— Есть же на свете такие славные люди, как Сашка Незагоров».
Через неделю снова нависла угроза роспуска, и опять повезло. Аксаков из Москвы прислал две тысячи— почти целый месяц жизни. Иван Сергеевич писал, что более не может добавить средств, так как все истрачено на покупку оружия и обмундирования ополченцам.
Спустя неделю пришел перевод на пятьсот рублей из Петербурга и письмо Александры Михайловны:
Милый Райчо!
Да соединится в тебе пыл прапорщика с рассудительностью ветерана. Верю в тебя и молю Бога, да ниспошлет он тебе победу, удачу и здоровье.