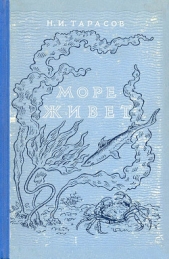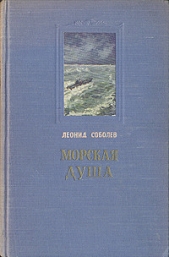Великий лес
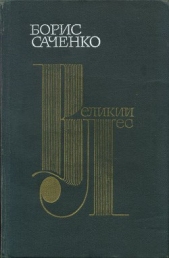
Великий лес читать книгу онлайн
Борис Саченко известен русскому читателю по книгам повестей и рассказов «Лесное эхо», «Встреча с человеком», «Последние и первые», «Волчица из Чертовой ямы», роману «Чужое небо».
В новом романе «Великий Лес» рассказывается о мужестве и героизме жителей одной из белорусских деревень, о тех неимоверных трудностях и испытаниях, которые пришлось им пережить в дни борьбы с фашистскими оккупантами.
Книга переведена на русский язык Владимиром Жиженко, который познакомил широкого читателя с рядом романов и повестей известных белорусских писателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так же ловко, проворно, как и вытаскивал, Степан Родионович запихал ногами чемоданы, папки, связки порыжелой от времени бумаги под кровать. Вот он уже снова у стола, выливает себе в стакан остатки из поллитровки.
— Ну что ж, выпьем за то, чтобы я напечатал все, что написал, сидя тут, в глуши…
И первый, ни с кем не чокаясь, выпил, опрокинул в себя стакан.
Закусывал теперь уже медленнее и как-то беспорядочно — брал прямо рукой то бабку, то сало, то огурец, то хлеб, пихал в рот, жевал и говорил, говорил без умолку:
— Уверен, я многим утру нос своею прозой. За пояс заткну! Потому что это у меня, — косил глазами под кровать и словно спорил с кем-то, доказывал свое Степан Родионович, — потому что это получше, чем у вас. Забрались на столичный Олимп и уже богами себя возомнили… А на самом деле… Однодневки. Вот, вот что вы писали!
Алина Сергеевна, чтобы преодолеть неловкость, перебила Степана Родионовича, спросила:
— А вы посылали… Ну, то, что писали… в журналы, в газеты?
— А как же — посылал! Так мне… Ответик на полстранички. «Уважаемый товарищ Кухта! Ваши произведения печатать нельзя — они слабы, малохудожественны. Читайте Пушкина, Коласа, Горького, учитесь…» Вот и все. Но я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь! Знаю, все знаю! Если б напечатали мои произведения, всем бы стало видно, кто писатель, а кто… Хе-хе! Я лучше всех пишу, потому меня и держат, не пускают. Пусти меня, так самим куда деваться?.. Но всё, кончилось их времечко, начинается мое, мое! — И Степан Родионович неожиданно громыхнул кулаком по столу. — Вам одним признаюсь. Был я у немцев сегодня, у коменданта ихнего. Порядочный, культурный человек, хоть с виду и грозен. И знаете, что он мне сказал? Немцам нужны люди, которые бы их поддерживали, добросовестные работники нужны. Таких они любят. Сразу работу предлагают. Хочешь, редактором газеты иди, хочешь — на ниве просвещения, хочешь — в полицию… Словом, выбирай! Но я… подумаю. В Минск, в Минск мне нужно! Сыт я, по горло сыт этой глухоманью! Простор мне нужен! Издательства, журналы, театр! Мне нужно такое место, чтоб и я далеко все видел, и меня чтоб видели. Потому я и не принял ни одного предложения, сказал: «Я подумаю. Подумаю, герр комендант!» Вот так! А вы в бега собрались! Да ведь жизнь, жизнь начинается!
В Библии, в святом писании сказано: «И грядет день…» Вот, вот он, тот день, и пришел…
И орлом посмотрел на Андрея Макаровича и Алину Сергеевну, сверху вниз окинул их взглядом.
— Услышите, еще услышите, кто такой обыкновенный деревенский учитель Степан Родионович Кухта!
Андрей Макарович, а за ним и Алина Сергеевна поднялись из-за стола. Им было просто необходимо уйти, вдохнуть свежего воздуха.
XXI
Из дневника Таси Нестерович:
«Папочка, вот мы и в Минске. Но радости нет. Дом, в котором мы жили, — в руинах. Говорят, в первые дни войны в него попала бомба. Ничего нам с мамой не жаль из того, что оставалось в квартире. Лихо с ним, со всем. Мама говорит: были бы мы сами живы, было бы здоровье, а все остальное… Будет, наживем! Боимся только одного: а вдруг ты был в доме, когда в него угодила та бомба? А могло же это быть. Тебя, скажем, отпустили перед самой войной, и ты пришел домой ночевать… Страшно даже подумать!.. Ой, только не это! И у кого спросить — был ты в те первые дни войны уже дома или нет?..
Вообще мы с мамой не почувствовали, что мы в родном городе. Может быть, потому, что всюду, на каждом шагу разрушения, битый кирпич, следы огня и пожаров. Вообрази: на месте пединститута — коробка с выбитыми, задымленными окнами. В развалинах и университет. На столбах, на стенах — разные немецкие приказы, распоряжения, написанные по-русски, по-белорусски, по-польски и по-немецки. И за все, за самую пустяковую провинность — расстрел. Лица у людей землистые, окаменелые. Но есть и довольные. Этого мы с мамой не можем понять — почему среди наших людей есть довольные, откуда у них эта радость? Неужели были такие, кто не любил советскую власть, ждал немцев? Не верю, не могу поверить в это!..
Иное дело — немцы. Им есть чему радоваться. Чувствуют себя завоевателями. Ходят, прогуливаются по улицам, смеются, гогочут. И с ними… Папка, ты можешь мне не поверить, но это правда, правда. Знаешь, кто с ними ходит? Наши девчата. Под ручку ходят. Немного таких, однако есть. Опускают глаза, когда встретят кого-нибудь из своих, — стыдно. И все же руку не принимают, не отходят, держатся за своего немца. Какой позор! Как можно дожить до такого, так низко пасть!..
В городе много пустующих квартир. Люди оставили свое жилье, все, что было нажито, и ушли. Но есть и такие, что остались. И вот днем все как будто нормально, если можно считать нормальным то, о чем я только что тебе говорила. А чуть смеркнется — оживает город. Здесь и там слышны выстрелы, взрывы. В брошенных людьми домах шарят воры. Срывают замки, взламывают двери, шастают по квартирам, волокут на себе кто шкаф, кто одежду, кто книги… И это наши, наши люди! Для одних война — горе, для других — только бы нажиться!
Ворвался ночью к нам в квартиру… ну, где мы с мамой живем пока, какой-то бандюга. Маленький, щупленький и… пьяный. Взломал дверь и ворвался. Увидел нас, перепуганных, и сам растерялся. «А я думал, хозяев нет. Извините!» И исчез. Видишь, даже совесть есть, культурный. А мы с мамой до самого утра не спали. Да и как тут уснешь? Дверь же не заперта, — вдруг еще какой нежданный гость забредет? Что захочет, то и сделать может. А ты молчи. Милицию не вызовешь, в суд не подашь…
Это ночью, а днем… Днем по городу ходим, тебя ищем. Вдруг встретимся случайно, вдруг ты нас тоже ищешь? Ведь это может, может быть! Ох, если бы!..
Перебрали мы всех твоих знакомых, у многих побывали дома. Некоторых нет в городе, а те, кто остался, говорят, что ничего о тебе не знают. Не видел никто из них тебя ни накануне, ни в первые дни войны. Неужели, папка, тебя так и не выпустили, неужели погнали куда-нибудь дальше на восток? Нет, не могло, не могло этого быть! Ты же не виноват, ничуточки не виноват. В это я верила и верю, как верила и верю в то, что с тобой до конца разобрались. Обязаны были разобраться! Справедливость и правда всегда брали верх.
Сегодня мама вспомнила про Лапицких. Вот, вот кто должен больше других знать о тебе. Да и о нас Лапицкий знал, где мы. Он же в Великом Лесе лекцию читал, и мама его видела. И тогда он через другого человека передал, что ты, папка, в Минске. Но дома ли Лапицкие? В Минске ли они? Завтра же пойдем к ним. А вдруг они знают хоть что-нибудь о тебе, вдруг скажут, где ты. Вот была бы радость! А то… Столько прошли мы, столько натерпелись, и что — зря? Нет, папка, хочу надеяться, хочу верить — не зря! Сегодня бы к Лапицким пошли, не откладывали бы на завтра. Но нельзя — комендантский час уже. И из дому на улицу лучше не показываться. Задержит патруль — конец. Да и задерживать не станет — выстрелит, и готово. Вот так, папка.
А пока будь здоров!..»
XXII
Дождь сеялся, моросил всю ночь и почти весь следующий день. Перестал лишь под вечер, когда Иван Дорошка подходил к Великому Лесу. Сразу же распогодилось, небо очистилось от туч, выглянуло солнце. Будто переродилось, ожило все вокруг — птицы, роса на траве. Да и сама трава по-весеннему зазеленела.
«Вот бы что-нибудь такое животворное, целительное сейчас и людям… Чтобы обрели надежду, снова поверили в себя!» — подумал Иван.
Но что именно дать людям, что сделать для них, чтобы они обрели надежду, поверили в себя, — Иван ничего предложить не мог. Знал — таким вот дождем, таким животворным, целительным бальзамом могла быть только победа над врагом, изгнание его с родной земли, конец войны.
«А пока этого нет, ничто, ничто не даст людям надежды. И потому надо приближать победу, бороться за светлый, радостный день».
Еще быстрее зашагал по тропке, которая, извиваясь меж кочек, вела к огородам и дальше — на песчаную, в глубоких колеях улицу.