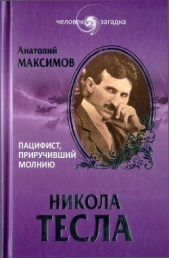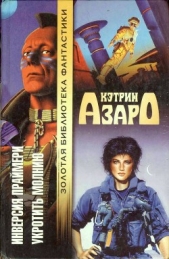Мир тесен

Мир тесен читать книгу онлайн
Читатели знают Евгения Войскунского как автора фантастических романов, повестей и рассказов, написанных совместно И. Лукодьянов. Но есть и другой Войскунский…
Этот роман как бы групповой портрет поколения подросшего к войне исследование трудных судеб мальчишек и девчонок, принявших на свои плечи страшную тяжесть ленинградской блокады. Как и в полюбившемся читателям романе Е. Войскунского «Кронштадт» здесь действуют моряки Балтийского флота. Повествуя о людях на войне, автор сосредоточивает внимание на острых нравственных проблемах придающих роману «Мир тесен» драматизм и психологическую насыщенность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Так ты речник? — спрашивает Виктор Плоский с некоторым оттенком превосходства соленой воды над пресной.
Не слышит Ушкало. Вспоминает, как в сороковом году, в августе месяце, приехал с Балтики в отпуск, в Красный Бор этот самый, а Зинке восемнадцать стукнуло, сама тоненькая, лапочка, а в глазах все тот же, с детства, испуг. Ничего ему не надо было, лишь бы этот испуг в ее глазах погасить.
— А чего она боялась? — спрашивает Т. Т.
К ушкаловскому басу теперь не только я — вся мастерская прислушивается.
— В Краков ее увез, а потом на Ханко… Вот ты знаешь, Иван, какая жизнь была на Ханко до войны. Хорошо мы на бэ-тэ-ка жили.
— Точно, — кивает Иоганн Себастьян. — Хорошо жили.
— Комнатка у нас была в чистом, понимаешь, домике. Занавесочки она повесила такие, в цветах. Скатерть сама вышила. Я со службы приду, а она сидит шьет. Ребенок, говорит, у нас будет. Повеселела. Песни стала петь… Запела вдруг, понимаешь…
Тут умолк Василий Трофимыч. Опустил голову, задумался.
— А где она? — спросил Радченко.
Он ждал ответа, ему — я вдруг почувствовал — хотелось услышать что-то хорошее, благополучное, в чем содержалась бы надежда и для него. Но Ушкало, похоже, не услыхал вопроса. Я вполголоса рассказал Радченко ту историю — ну, вы помните, про женщину с ребенком на тонущем судне.
— Так это у нас на «Турксибе» было, — сказал Виктор Плоский.
— Что у вас было? — Ушкало поднял на него тяжелый взгляд.
— Женщина с ребенком. Нам «юнкерс» на кормушку положил бомбу, пароход стал тонуть. Я из радиорубки выскочил, гляжу, из лоцманской каюты выбежала женщина, ребенок у ней на руках в желтом одеяльце…
— В желтом?
— Да. — Виктор потеребил усы. — Уф, жарко стало от спиртяги. — Он стянул фуражку с головы, и я впервые заметил, какие у него большие залысины.
— А платье на ней какое было? — спросил Ушкало. — Цвет какой?
— Цвет? Н-не помню. Я только знал, что женщину с ребенком разместили наверху, в лоцманской каюте. Она ж обычно пустует…
— Ну, выбежала из каюты, — жестко прервал его Ушкало. — Дальше что?
— У нас шлюпки были приспущены. До фальшборта. Я ей крикнул, чтоб сбежала с крыла мостика на правый борт. К шлюпке. Пароход валился на правый борт.
— Не кормой погружался?
— Кормой, но с креном на правый борт. — Виктор мучительно наморщил лоб. — Я в шлюпку не успел. Прыгнул в воду, меня закрутило, еле я выплыл из воронки… в доску вцепился… в распорку с ростров… Часа три болтался на волнах. Катерники меня подобрали.
— А с женщиной как?
— Я ее больше не видел.
Плоский свернул цигарку, воткнул в мундштук, посредине схваченный набором цветных колечек. Прикурил у Шунтикова, а Шунтиков ему — тихо:
— Женщин сперва спасают. А потом уж — себя.
— Не по адресу, браточек. К ней был приставлен, к твоему сведению, помполит.
— При чем тут помполит? Раз ты мужик…
— Слушай, дитя природы, чего ты привязался?
Плоский откачнулся от стены и с угрожающим видом подался к Шунтикову. Тот встал с табурета, но Ушкало схватил его за руку:
— Брось, Иван. Сиди помалкивай. Это не Зина была. У Зины отродясь не имелось желтого одеяла.
— Какая такая Зина? — сказал Виктор. — Это была эстонка. Жена кого-то из эстонского начальства. А помполит, — добавил он, — тоже не спасся.
У меня от бензоконьяка жар полыхал в организме. Голову приятно туманило, в теле появилась легкость, ноги, меченные красными цинготными точками, ничуть не болели. Я бы мог сейчас взлететь, стоило лишь слегка подпрыгнуть.
Виктор теперь рассказывал о своем «Турксибе» — как он перед войной совершил два рейса в Германию.
— В Гамбурге выгружали зерно, — слышал я его высокий резковатый голос, — так причал оцепила полиция. Никого — ни туда, ни сюда. Съезд на берег запрещен. Я с одним немцем-докером заговорил — он головой замотал, как глухонемой, а в глазах испуг…
А Ушкало, печальный, размягченный, гудел, обращаясь к Шунтикову:
— У нее токо-токо стала душа отогреваться… Я со службы приду, а она поет, понимаешь…
У Шунтикова в узких прорезях глаз качались ковыли на степных просторах. Мне хотелось толкнуть его в бок и сказать: «А помнишь, как ты меня со спиртом растер?» Мы с Т. Т. сидели на одном табурете, перед нами на верстаке стояла пустая кружка, благоухавшая бензоконьяком, и все мне было сейчас трын-трава. Вот взлечу, хлопая черными полами бушлата вместо крыльев…
— …Как раз входили в Киль, — продолжал вспоминать довоенные рейсы Виктор Плоский, — когда его оттуда буксиры выводили. Здоровенная такая коробка…
— Какая коробка? — спросил я.
— Ты ушами слушаешь или чем? Крейсер «Лютцов», который мы у Германии купили. Морские буксиры выволокли его из Киля и повели в Питер. А он был недостроенный, без винтов. Пушки есть, а замков к ним, говорят, нету…
— Откуда ты знаешь, что без винтов? — усомнился Т. Т.
— Я, товарищ замполитрука, — прищурился Виктор на него, — много чего знаю, что тебе и не снилось. Мы его потом видели в Торговом порту. «Лютцов» переименовали в «Петропавловск», и пошла переписка с Германией: давайте, такие-сякие, замки к пушкам и прочее. А они отбрехиваются: то не готово, это не готово. Ясно же ж было, не хотели слать, раз к войне готовились.
— Это теперь, — сказал Т. Т., — задним числом ясно. А тогда…
И пошел у них спор. Они — Виктор и Толя — друг друга ни на вид, ни на нюх не принимали. Т. Т. мне сказал как-то: «У меня к этому Плоскому идиосинкразия».
— Ладно, хватит. — Ушкало поднял голову, упер тоскующий взгляд в черный потолок мастерской. — Нету больше Зины. Лежит с Дашкой на дне залива. А мы живые… вот выпили за упокой души… и за Безверхова с Литваком…
— О каком Безверхове говоришь, главный? — спросил Виктор. — Не об Андрее?
— О каком же еще. Ты знал его?
— Как не знать, — усмехнулся Виктор, топорща усы. — Как же не знать двоюродного братца.
— Постой… — Ушкало воззрился на него. — Как твоя фамилия?
— Плоский.
— Плоский? Нет, Андрей как-то иначе называл… А имя?
— Виктор.
— Ну да, Виктор. Точно. Он про тебя рассказывал.
— А где Андрей?
— Нету Андрея. Потонул.
Я уточнил:
— Остался на «Сталине». Я ж тебе рассказывал, мы со второго на третье декабря подорвались на минах. Андрей остался на тонущем транспорте. Понятно?
Виктор кивнул.
— Там много народу осталось, — добавил я. — А корабли за ними не послали.
— Опять гнешь свое, — напустился на меня Т. Т. — Ты ж не знаешь тогдашней обстановки. А может, корабли посылали, но они не смогли пройти? Как же можно утверждать…
Так я узнал, что Виктор Плоский и Андрей Безверхов — двоюродные братья. Но историю их семей Виктор рассказал мне позже. А в тот раз, в прокуренной, пропахшей бензином мастерской, разговор об их родстве оборвался. Ну, братья и братья. Мир тесен, давно известно. Один брат потонул, а второй — вот он, дым из-под усов выдувает.
Май всегда был моим любимым месяцем. После схода ладожского льда по Неве наступали теплые дни, хмурое питерское небо голубело, а наш мутно-серый канал Грибоедова робко розовел по утрам, пытаясь отразить восход солнца. В книгах иногда попадались фразы вроде: «Его дряблые щеки покрылись старческим румянцем». Вот так и канал Грибоедова.
Я любил май. Город, сбросивший долгопятую снежную шубу, молодел, прихорашивался, отмывал от зимней тусклости окна, уже готовые принять тихую прелесть белых ночей. Веселое солнце звало на улицы, на набережные, на Острова.
Май прошлого, сорок первого, тоже был неплох. Журча, скатывалась в море весенняя вода с горбатых улочек Ганге; во дворе участка СНиС безумствовала сирень; в бывшей кирхе на высокой скале крутили чудную картину «Антон Иванович сердится». Мы лазали на столбы, копали траншеи для кабеля, мы не думали о войне, мы готовились к войне, мы, шагая в строю, орали «Катюшу» и «Трех танкистов».
Нынешний май отдавался цинготной ломотой в костях. Я выплевывал блокадную немочь с кровью, с зубами. Хилая тень тащилась рядом со мной по кронштадтским булыжникам. Клянусь, я не узнавал собственную тень, в ней было что-то стыдное.