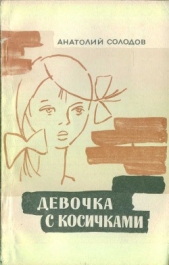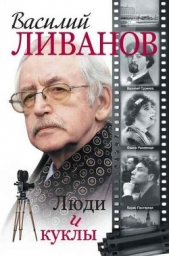Здравствуй, Чапичев!

Здравствуй, Чапичев! читать книгу онлайн
Повесть о Якове Чапичеве, человеке широкой души и щедрого сердца, о коммунисте, бойце и поэте, была задумана мною давно, еще в те дни, когда я только что узнал о посмертном присвоении ему звания Героя Советского Союза.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Последним вышел из зала он. Яков поднялся и преградил ему дорогу. Он остановился, на мгновение прикрыл лицо рукой, наверное, решил, что Яков хочет ударить, а он лишь хотел увидеть его глаза. И увидел: беспощадные, как смертный приговор, ничем не замутненные глаза человека, уверенного в своей правоте. «Ты домой?» — спросил он. Яков не ответил. Он все еще смотрел в его глаза, хотя уже знал, что ничего другого в них не увидит. «Тогда я пойду», — сказал он.
В тот вечер Яков впервые заблудился в своем полку. У орудийного парка его чуть было не застрелил часовой. Яков не расслышал его команды: «Стой! Обойти влево!» И часовой, щелкнув затвором, закричал нервным голосом: «Стой, стрелять буду!» «А если не остановиться?» — подумал Яков. И все же подчинился приказу. Он не мог не подчиниться приказу. Это у него было уже в крови.
Яков направился к проходной. Там его остановили. «Ваш пропуск», — потребовал дежурный. У Якова никогда не требовали пропуска, его все знали в полку. «Ваш пропуск», — снова приказал дежурный и почему-то схватился за рукоять шашки. Яков протянул ему коричневую книжечку. «Проходите», — сказал дежурный и положил пропуск Якова себе в нагрудный карман. «Все, — понял Яков, — меня выгнали из полка».
Чапичев так никогда и не узнал подробностей возникновения «персонального дела». Да и не хотел знать. Для чего ему подробности? Для чего растравлять глубокую рану в сердце? Для него было ясно одно — он чист перед партией, перед людьми. Ему не в чем винить себя, не в чем раскаиваться…
Всю ночь после партийного собрания Яков провел на пороге своего дома. Сначала хотел пройти мимо, но увидел свет в окне. Во всем доме уже спали, а окно его комнаты светилось. Нет, уже не его комнаты.
«Бедная жена ждет меня, — подумал Яков. — Да, ждет. И меня, и особистов ожидает. Они, наверное, сказали, что придут за мной. Они придут, а меня не будет. Они подумают, что я сбежал. А я не враг, я не хочу бежать».
До рассвета просидел он, не смыкая глаз, в подъезде. Но за ним так и не пришли. И когда Яков уходил прочь от ставшего теперь ему чужим дома, в окне его комнаты все еще горел свет.
— Мне это было уже безразлично, — сказал Яков.
— А с ним не виделся после того?
— Нет, я больше его не видел. Да и не хочу видеть. Я считал его своим другом, верил ему, как самому себе, а он оказался подлецом…
«ИТАК, НАЧИНАЕТСЯ ПЕСНЯ О ВЕТРЕ…»
Воскресенье — горячий день для чистильщиков. По воскресеньям улицы Симферополя запружены толпами гуляющих, а для щеголя-южанина гуляние не гуляние, если обувь у него не в порядке. Пусть она даже будет в заплатах, чиненая-перечиненная, но если она кожаная, то должна сверкать, если с парусиновым верхом, должна быть белее снега. Словом, как говорят симферопольцы, шик-блеск.
Мы договорились с Яковом пойти на концерт московского джаза. Я пришел к гостинице за час до начала с билетами в кармане и увидел у чапичевского «заведения» очередь жаждущих блеска. «Пропали билеты», — с огорчением подумал я. Но Яков подмигнул мне: не беспокойся, мол. Он работал вдохновенно, как артист. Мелькали в воздухе щетки, плавные движения, барабанная дробь: «Пожалте, левую! Пожалте, правую!» На той же скорости веселый разговор, пересыпанный озорными шутками, хохмами, без которых южанину жизнь кажется пресной.
Такие веселые уличные интермедии входят в обязательный репертуар отдыхающего симферопольца, и плохо чистильщику, если он не остроумный человек. Он останется без работы, ему лучше сменить профессию. Иначе о нем будут говорить с презрением: «Покойничек… Пусть на покойничков наводит блеск».
Обслужив очередного клиента, Яков вдруг обратился ко мне:
— Прошу вас, садитесь, — и даже обмахнул кресло бархоткой. Я растерялся от такого неожиданного приглашения, а очередь бурно запротестовала.
— Напрасно волнуетесь, товарищи. С утра заказано, по телеграфу из Джанкоя. Вот, — Яков достал из кармана какую-то бумажку: «Запишите очередь тчк Буду экспрессом девятнадцать десять». Разве вы не видите, что у товарища на ботинках джанкойская грязь и пыль. А у него через пятнадцать минут важный доклад. Ногу, товарищ!
Болтая черт знает что, Яков набросился на мои действительно запущенные ботинки. Я чувствовал себя неловко, и Яков это заметил.
— Что ты морщишься?
— Нехорошо как-то, что ты мне ботинки чистишь.
— Глупости. Ты на меня работаешь, я на тебя. А как же иначе? Справедливо. Справедливее быть не может. Ты что думаешь, при коммунизме чистильщиков не будет?
— Не знаю.
— А я знаю. Будут. Может, не такие, как сейчас, не со щетками в руках, но будут, обязательно будут. А симферопольцы, как только разбогатеют, обязательно поставят памятник чистильщику. В знак признательности и уважения.
— И тебя возьмут за образец.
— Может, и меня. Фигура у меня ничего, как будто подходящая.
— Да, красив, как молодой бог.
— Вы мне льстите, уважаемый клиент. Я сегодня одному человеку туфли чистил, вот он действительно похож на бога. До чего же красивый человек.
— Кто такой?
— Не знаю. Будто видел его где-то, но вспомнить не мог. Наверняка писатель или артист. Голос у него, как у Шаляпина.
— Он тебе пел, что ли?
— Да нет, сказал: «Благодарю» — и еще добавил, что нигде ему так не чистили башмаки. Но сказал это так, словно арию о любви пропел.
«Кажется, это Луговской», — подумал я. Несколько дней назад я видел Владимира Александровича в ялтинском Доме творчества, и он, между прочим, сказал, что собирается в Симферополь.
— Он в брюках гольф? — спросил я.
— Да.
— Это Луговской.
Яков хлопнул себя ладонью по лбу.
— Балда! Как же я не догадался?! Я же всегда представлял Луговского именно таким — большим, красивым, могучим.
Яков вскочил и, забыв о моих недочищенных ботинках, бросился в вестибюль гостиницы. Сквозь стеклянную дверь я видел, как он подбежал к окошечку администратора. Вернувшись, радостно сообщил:
— Он. В двести четвертом номере. Давай ногу, я дочищу тебе ботинки.
— Я уже сам закончил.
— Вот и хорошо. На этом кончаем базар.
В очереди зашумели.
— Спокойствие, граждане, — громко оказал Яков. — Вы что же думаете, у некооперированных кустарей нет охраны труда? Ошибаетесь. Но я вас так не оставлю, товарищи. Вон там за углом работает мой коллега. Там нет никакой очереди, так что он быстро вас обслужит.
Уговаривая не очень сговорчивых клиентов, Яков поспешно, несколько небрежно прибрал свое рабочее место. Потом сказал:
— Вот и все. Пошли к Луговскому.
— У нас же билеты на концерт, — напомнил я.
— А я надеялся, что хоть ты-то меня понимаешь, — с укором сказал Яков.
И я понял его. Конечно, ему надо встретиться с Луговским. В ту пору Яков много писал. Почти каждый день он читал мне новые стихи: короткие баллады о гражданской войне, героями которых были Чапаев, Щорс, Пархоменко, Лазо, Руднев, стихи о друзьях-артиллеристах, от которых его так обидно оторвали.
Прежде чем подняться на второй этаж гостиницы к Луговскому, Яков затащил меня в туалетную комнату и минут десять тщательно мыл руки, стараясь смыть следы гуталина. Затем, смочив водой волосы, он попытался причесать их и только махнул рукой.
— Опускаться стал, — с грустной усмешкой сказал он. — В армии я всегда коротко стригся, а сейчас закурчавился, как беспризорный.
У двери двести четвертого номера мы как-то невольно задержались.
— Неудобно все-таки, непрошеные гости, — сказал я Чапичеву.
— А что тут неудобного? Неудобно только левой ногой правое ухо чесать. А мы войдем и скажем: «Итак, начинается песня о ветре». Он сразу поймет, что к чему.
Но как ни храбрился Яков, когда мы вошли в номер, он как-то сразу оробел и притих. Может, его смутило, что Луговской был не один. В глубине комнаты у окна стояла женщина.
— Моя подруга, — представил ее Луговской. Женщина молча кивнула головой. За весь вечер она не промолвила ни слова. Она либо стояла у окна и глядела на улицу, либо неслышно ходила по комнате с вытянутыми вдоль туловища тонкими обнаженными руками, либо, присев к столу, подолгу смотрела на Луговского зелеными глазами. Наш приход явно огорчил женщину. А поскольку мы засиделись, то она не в силах была скрыть свое недружелюбие. Зато Луговской принял нас очень радушно.