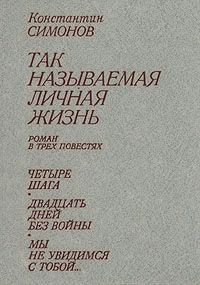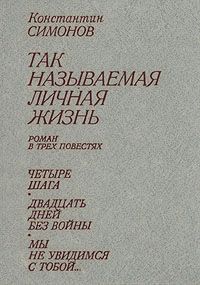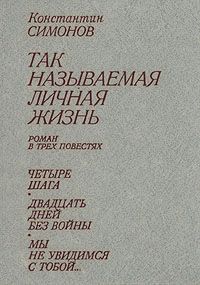Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)

Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) читать книгу онлайн
В томе помещен роман в трех повестях «Так называемая личная жизнь», содержание которого определил сам автор – «о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Товарищ Лопатин, Василий Николаевич? Не обознался? – подходя к Лопатину, спросил широкоплечий подполковник и протянул руку. – С прибытием! Губер, Петр Федорович.
Высокий, остановившийся сзади него, шагнул из-за его спины и, каким-то рыдающим, нечеловеческим голосом вскрикнув: «Вася!», обнял Лопатина.
Все было неузнаваемо в этом человеке. И голос, в котором вместо прежних медных труб осталось одно рыдание, и неправдоподобно худая фигура, и постаревшее лицо, которым он, как слепой, тыкался сейчас в лицо Лопатину. И все-таки это был он, именно он – Слава, Вячеслав Викторович, старый товарищ и одно время, в их литературной молодости, даже покровитель Лопатина, человек, с которым он и хотел и боялся встретиться здесь, в Ташкенте.
– Я вчера принес Петру Федоровичу стихи для вашей газеты и узнал, что ты приезжаешь, и он великодушно согласился взять меня с собой, – продолжая держать за плечи Лопатина своими тоже не прежними, неуверенно подрагивающими руками, говорил Вячеслав Викторович, стараясь усилить свой голос до знакомых медных труб. – И надеюсь, что мы поедем отсюда прямо ко мне и ты будешь жить у меня, сколько тебе заблагорассудится.
– В офицерском общежитии по телеграмме редакции место оставлено, – выжидательно сказал Губер.
– Петр Федорович, – снова стараясь дотянуть голос до прежних медных туб, сказал Вячеслав Викторович, – я уже просил вас не упоминать об этом общежитии.
– Докладываю обстановку, как она есть, – с оттенком досады сказал Губер.
– Я тебя очень прошу, только у меня, – Вячеслав Викторович повернулся к Лопатину и снова положил ему на плечи свои подрагивающие руки. – Я не понимаю вообще, о чем мы тут разговариваем?
И хотя он произнес последние слова с вызовом, в вызове этом было что-то неуверенное, похожее на просьбу о прощении, хотя Лопатину нечего было ему прощать. И Лопатин сказал: «Спасибо, конечно, поедем к тебе». И попросил Губера отказаться от брони в офицерском общежитии.
Они поехали в казенной «эмке» Губера по заметенному снегом Ташкенту и остановились между двумя одноэтажными домами, у низкой арки ворот.
– Прошу и вас ко мне на огонек, Петр Федорович, – сказал Вячеслав Викторович, когда они вышли из «эмки».
– Благодарю, нет, – довольно резко ответил Губер, так, словно ему предлагали это уже не в первый раз. – Когда выспитесь, заеду за вами, договоримся о дальнейшем. В одиннадцать не рано?
– Не рано, спасибо, – сказал Лопатин.
Губер откозырял и полез в «эмку».
И что-то натянутое в этой маленькой сцене заставило Лопатина вспомнить, как месяца четыре назад, в Москве, Гурский сказал ему:
– Слушай, п-прояви гум-манизм. Там у редактора лежат ст-тихи твоего д-друга, которые прислал наш корреспондент из Ташкента, а он уп-перся и не хочет п-печатать.
Лопатин сходил к редактору, но тот ничего не желал слышать.
– Мне его стихи из Ташкента не нужны. Пусть попросится поехать от нас на фронт – попробуем, пошлем. А из Ташкента – нет!
Какой-то оттенок того разговора с редактором Лопатин почувствовал сейчас в отношении Губера к Вячеславу Викторовичу. Наверное, не хотел брать его с собой на вокзал…
«Эмка» отъехала, стрельнув из-под колес снегом, и Вячеслав Викторович, рассеянно проводив ее взглядом, повернулся и показал Лопатину на ворота.
– Я там… со двора. Только не поскользнись, у нас темно, я пойду первым.
Комната, в которую они вошли, пройдя перед этим по закоулкам длинного двора, была довольна большая. Голая, без абажура, лампа горела вполнакала под самым потолком. Было полутемно и холодно. У одной стены стояла накрытая паласом широкая продавленная тахта, у другой – шкаф. Посреди комнаты – обеденный стол и несколько стульев.
Кажется, здесь была еще одна комната: Лопатин заметил дверь, полуприкрытую занавеской на деревянных кольцах.
– Раздевайся, – сказал Вячеслав Викторович. – Клади прямо сюда. – И сам бросил на тахту знакомое Лопатину довоенное заграничное демисезонное пальто, теперь сидевшее на нем, как на вешалке.
Лопатин поставил вещи и, скидывая на тахту полушубок, вспомнил прежний кабинет Вячеслава там, в Москве, с большими окнами и ярко-желтыми простенками, в которых висели старые теребеневские лубки войны двенадцатого года. Там тоже была широкая тахта, и ее накрывал спускавшийся со стены ковер.
И в этой нынешней комнате, на вытертом паласе, словно память о прошлом, висела шашка. Одна, но все-таки висела!
– Не опрокинь там кашу. – Вячеслав Викторович, подойдя к тахте, развернул узбекский ватный халат и вынул из него кастрюлю. – Еще горячая, – сказал он, потрогав ее, и поставил на стол. – Сегодня у меня сравнительно ничего, тепло, верно? Подтопил к твоему приезду. А вообще скверно. Зима лютая, нездешняя, и угля нет, хоть воруй! А может, тебе все же холодно?
Он снова подошел к тахте и, взяв халат, накинул его на плечи Лопатина.
– Грейся, он еще теплый от каши. Хорошая вещь, эти халаты! У меня три. Ими и спасаюсь, когда угля нет. Особенно по утрам холодно, когда утренний намаз совершаешь. Хоть не мойся! А помнишь, какая жара стояла в Пянджикенте тогда, в тридцать четвертом году?
Лопатин помнил, какая тогда стояла жара, но гораздо лучше помнил другое: как, попав тогда в Среднюю Азию, черной завистью завидовал Вячеславу, который перед этим, во время боев с басмачами, целую неделю находился при штабе Кавдивизии у знакомого ему и воспетого им потом в стихах комдива.
«Что же все-таки случилось с ним? И как могло случиться именно с ним?» – подумал Лопатин, садясь за стол напротив Вячеслава Викторовича, который, виновато пожимая плечами, говорил ему, что не успел добыть ничего существенного.
– Могу тебя приветствовать только тем, что видишь на столе.
На столе была каша, хлеб, банка с бычками в томате и бутылка портвейна.
– Могу пополнить, – сказал Лопатин. – Имею кое-какие запасы.
– Пополнишь через три дня, когда будем встречать с тобой Новый год. А сегодня мои хлеб-соль, какие есть! – Вячеслав Викторович налил по стакану портвейна. – До сих пор не верю глазам, что ты сидишь передо мной. Но, как говорят братья узбеки, «хоп майли» – так оно и есть!
Он чокнулся с Лопатиным и первым выпил.
– Как ты располагаешь – спать или разговаривать? Я по-прежнему полуночник!
– На первый раз могу соответствовать, – сказал Лопатин. – В дороге выспался почти до отказа.
– Тогда проговорим до утра! А потом положу тебя спать там, у мамы, на мамину кровать… – Вячеслав Викторович кивнул на дверь с занавеской.
Это было как раз то, о чем не решался спросить у него Лопатин с первой минуты, как вошел в эту комнату, где не было следов ни женских рук, ни женского дыхания. Он знал, что мать Вячеслава тогда, в августе сорок первого, тоже уехала с ним в Ташкент; уехала и его жена Ирина. Но жены могло и не быть с ним. Она и до войны то бывала, то не бывала… А мать…
– Что с мамой? – спросил Лопатин, боясь того ответа, который услышал.
– Умерла три месяца назад. На той самой кровати, на которой будешь сегодня спать. Сразу! Даже «скорая помощь» не успела приехать. От старой грудной жабы, которой она всегда страдала. Климат ей почему-то не подходил, хотя врачи, наоборот, говорят, что перемена климата помогает… А ей не подходил! Плохо переносила жару. Того лета почти не застала, это выдержала, а в сентябре умерла… Мама часто вспоминала тебя… И всех других, кого она любила. Она ведь одно из двух – или любила, или не любила… Я всегда завидовал в ней этому. Сердилась на вас, на тех, кого любила, что не пишете мне писем сюда, и на меня, что я вам не пишу писем туда. Я пробовал ей объяснить, что в сложившихся обстоятельствах не могу писать тебе первым. Но она не желала этого понимать. Говорила: ну, так пусть он напишет первым… Только не думай, что я хотел получать от вас письма. В какие-то минуты хотел, но чаще не хотел. Особенно от тебя!
– Почему «особенно»? – спросил Лопатин.
– Потому что ты старше меня, а не моложе. И перед тобой нет даже того оправдания, к которому я в минуты слабости прибегаю, думая о своих учениках. А иногда я думаю, что они вообще никогда ничему у меня не учились. А если и учились, не желают помнить об этом.