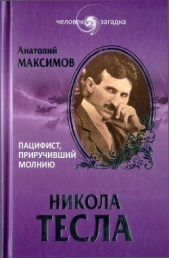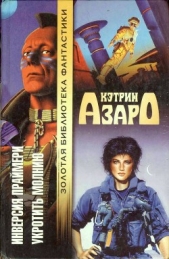Мир тесен

Мир тесен читать книгу онлайн
Читатели знают Евгения Войскунского как автора фантастических романов, повестей и рассказов, написанных совместно И. Лукодьянов. Но есть и другой Войскунский…
Этот роман как бы групповой портрет поколения подросшего к войне исследование трудных судеб мальчишек и девчонок, принявших на свои плечи страшную тяжесть ленинградской блокады. Как и в полюбившемся читателям романе Е. Войскунского «Кронштадт» здесь действуют моряки Балтийского флота. Повествуя о людях на войне, автор сосредоточивает внимание на острых нравственных проблемах придающих роману «Мир тесен» драматизм и психологическую насыщенность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Есть три наряда, — ответил я, тоже бросив руки по швам.
Чего только не передумаешь, стоя ночью в карауле!
Мороз забирает все круче, и, хоть ты утеплен до предела, положенного службой вещевого снабжения (на тебе овчинная доха поверх шинели, брюки заправлены в валенки), — все-таки ты здорово мерзнешь. Дышать-то надо, а воздуху для дыхания нет — замерз воздух.
Я стою на часах у входа в снисовский передающий центр. Там радисты несут круглосуточную вахту. Я поглядываю на решетчатую мачту и представляю себе, как с ее верхушки срываются и несутся в глухую ночь невидимые точки и тире, которым нипочем любой мороз, любая непогода. И думаю о том, что свалял дурака, не добившись при призыве, чтоб меня направили учиться на радиста. Ведь я знаком с радиотехникой. В девятом классе мы с Павликом Катковским смастерили детекторный приемник, и он, представьте себе, ловил музыку, передававшуюся ленинградской радиостанцией, — почему-то не всю, а самую громкую, преимущественно духовую. Наш приемничек признавал только медные трубы. Да. Надо, надо было мне заделаться радистом. Ну что это за специальность — электрик-связист? Лазать на столбы… подводные кабели затраливать…
Тут мои мысли перескочили на мамино письмо, пришедшее неделю назад. Я не узнал маминого почерка, всегда такого твердого, с гимназическим нажимом. Карандашные строчки шли вкось, слова обрывались на переносах, не продолжаясь с новой строки. «Чернила замерзли, — писала мама. — Я живу в твоей комнате, но буржуйка даже ее не обогре Очень холодно, дров не хватает, ложусь спать нава на себя кучу тряпья. Ничего, надо держаться. Счастлива, сыночек, что ты верну в Кронштадт. Живу надеждой что ты приедешь…»
С первых же дней после возвращения с Ханко я рвался в Питер. Пока нас распихивали по частям Кронштадтской крепости, мы больше недели торчали в холодных казармах учебного отряда — за это время я вполне смог бы смотаться в Ленинград. «У меня там мать больная, — просил я капитана из оргмоботдела, занимавшегося нами, гангутцами, — у нее никого нет, кроме меня…» — «Не разрешено, — сухо ответил он. — В Ленинград — только по служебным делам».
«Я совсем одна в квартире, — будто спотыкаясь, шел дальше мамин карандаш. — Света редко быва живет в МПВО, а Либердорф теперь военный, где-то в армейской газе стал писать стихи, даже по радио пере У меня дежурства через день. Хожу с трудом. Надо держаться. Боря, приезжай. Увидеть тебя хоть разо…»
С простуженным хрипом раскрывается дверь передающего центра, выпускает в ночь невысокую плотную фигуру. Привыкшими к темноте глазами различаю длинное лицо, пересеченное полоской усов. Это Виктор Плоский, старшина второй статьи, ленинградец. Он на миг останавливается, затворив дверь. Под усами у него мерцает красный огонек цигарки. Это очень кстати: самокрутка у меня давно свернута, а спичек нет. Есть, правда, кресало, но поди высеки искру замерзшими руками, попробуй раздуть трут на треклятом этом морозе. Я пока не очень наловчился с добыванием огня.
— Дай прикурить, земляк, — говорю.
Плоский всматривается в меня.
— А, это ты, скуластенький. — Подносит цигарку в длинном мундштуке, и я прикуриваю, ощущая легкое дуновение тепла от разгорающегося огонька. — Ишь, скулы выперли из дохи, — говорит он, шевеля усами, как таракан, остановившийся в раздумье.
Это сравнение пришло мне в голову не сейчас, а однажды в начале января, когда я в первый раз увидел Плоского. Мичман Жолобов заглянул к нам в кубрик и послал меня в мастерскую за Радченко. (Когда кого-нибудь надо зачем-то послать, всегда попадаюсь я.) Мастерская подводно-кабельной команды занимала выгородку в помещении аккумуляторного сарая во дворе СНиСа. Тут, в тесном закутке, сидел за верстаком старшина первой статьи Радченко — мастерил по своему обыкновению, а перед ним стоял невысокий сутулый усач с длинными руками. Он разглядывал мундштук с пестрым набором цветных колечек (Радченко здорово мастерил мундштуки из обрезков изоляционных материалов) и удивленно-восторженным хмыканьем выражал свое удовольствие. Я сказал Радченко, что его вызывает мичман. Радченко кивнул, не прекращая водить напильником по зажатой в тисочках железяке: жик-жик-жик. Вдруг усач сказал, нацелив на меня черные точки глаз: «Товарищ краснофлотец, вы почему нарушаете?» Я растерянно уставился на него, ища и не находя на его одежде знаки различия (он был ватнике). «Что я нарушаю?» — «Ворвались без разрешения, — уточнил он, шевеля усами. — А тут люди собеседуют. Как фамилия? «Надо было послать его подальше, но я еще не научился так, с ходу. «Земсков, — сказал я. — А вы кто такой?» «Федя, — обратился этот типчик к Радченко. — Что у тебя за матросы? Они не знают меня. Откуда эта деревня?» Радченко усмехнулся, встал с табурета. «А он не деревенский, — сказал, нахлобучивая шапку на черную шевелюру. — Он, Витя, как ты, с Ленинграда». — «Да ну? — ужасно удивился этот Витя. — В Ленинграде раньше таких трюфликов не было». — «Сам ты трюфлик! — разозлился я (не столько на усача, сколько на дурацкое, неизвестное мне слово). — Чего тебе надо? Я тебя не задевал, и ты…» — «На какой улице жил?» — спокойно прервал он мою отповедь. «Ну, на канале Грибоедова». — «Молодец, — одобрительно кивнул странный Витя, как будто ему было приятно, что я жил не где-то на Обводном канале. — А что окончил? Цэ-пэ-ша?» Я знал: так флотские остряки называют церковноприходские школы, которых давно уже нет, но окончание которых приписывают людям малообразованным. «Не сумел, — ответил я сердито. — За неуспеваемость выгнали». Мы вышли из мастерской, и Радченко сказал, посмеиваясь, запирая дверь: «Он, Витя, в университете учился». — «О-о! — Витя опять зашевелил усами, и вот тут я подумал: похож на таракана, вдруг остановившего свой бег в раздумье. — А маршалов Наполеона знаешь?» — «Не знаю, — отрезал я. — И не слыхал никогда такую фамилию». Потом я спросил у Радченко, кто это такой? «Да это Виктор Плоский, — сказал он. — Радист. Торгаш бывший». — «Торгаш?» — не понял я. «Ну, с торгфлота. На пароходах плавал. А как с Таллина шли, потонул его пароход, разбомбили, ну, Виктора в военморы, и к нам в СНиСы. В сентябре. Сразу его в Стрельну, на корпункт. Корректировку огня давал оттуда на форты. Отличился. — И, уже войдя в подъезд и ступив на лестницу, Радченко добавил: — С ним — ухо востро!»
Мы стоим с Виктором Плоским у дверей передающего центра, попыхиваем махрой.
— Сменился с вахты? — спрашиваю. — Или просто так вышел?
— Я-то сменился, — говорит Виктор своим тихим, интеллигентным голосом. — А ты чего тут с ружьем торчишь?
— Я добываю себе на жизнь карабином, — вспоминается мне фраза из «Зверобоя».
— А-а, — кивает Виктор. — Ну, добывай.
Он идет прочь.
— Земляк! — окликаю я. Очень не хочется оставаться одному на морозе. — Земляк, научил бы меня радиоделу, а? Я в радисты хочу.
Виктор Плоский думает секунды две — и вдруг:
— А что такое радио?
— Ну, это… — Я застигнут врасплох. — Излучение колебаний…
— Не знаешь. Радио — это беспроводная передача электрических сигналов, — говорит он наставительно.
— Ну, само собой, беспроводная…
— Чему вас учили в цэ-пэ-ша? Эх ты, человек с ружьем.
Да, с ним держи ухо востро. Я провожаю Виктора взглядом, пока его невысокая фигура не растворяется на фоне холмика над бункером в середине двора. Идет, по моим прикидкам, третий час. Кронштадт спит на своем жестком, холодном ложе. Спит Итальянский дворец со всеми пристройками, флигелями, со старомодными своими снами о парусах прошлых времен. Только мы не спим — часовые.
Я прохаживаюсь взад-вперед по хрустящему снегу и думаю об Ирке. Что-то давно нет от нее писем. Прислала два письма из Челябинска — два взбалмошных крика о неуютности Урала, о тоске по Питеру (и по мне, да, представьте себе, по мне), — и замолчала. Завтра же напишу Ирке письмо. «Почему молчишь? — напишу я. — Разве мы с тобой не соединились однажды в октябре?» Я часто вспоминаю то, что произошло между нами, вспоминаю подробно. Но сейчас, на лютом январском морозе, воспоминание не горячит мне кровь.