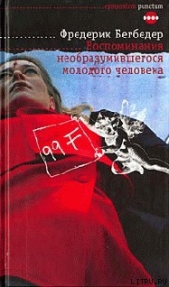Освобождение души

Освобождение души читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вечером. Возьмем город — тогда. Сейчас отправить не с кем.
Но немцы перед боем вводили новые силы. Та рота, которая взяла деревню, отводилась в ближайший тыл. Лейтенант, командир роты, собирая своих солдат, увидел меня.
— Hauptmann? — показал он на мои погоны.
— Kriegsberichter, военный корреспондент, — добавил я.
— О! — сказал он и забрал с собою.
Гебельциг стал тылом. Лейтенант и солдаты, — их уцелело немного, рота потеряла, как я понял, 40 человек, — были в маскировочных халатах с зелеными и коричневыми пятнами, в металлических касках, обтянутых сеточками, чтобы втыкать пруты, пучки травы. Но в деревне уже бегали штабофицеры — в фуражках с высокими тульями, начищенных сапогах.
Увидел я на взгорье белый двухэтажный дом, где мы так беззаботно, за картами и гусятиной, провели два дня. Окна были открыты, занавески отдернуты, — так и у нас подмосковные бабы выветривали немецкий дух.
Близ дома, в ложбинке, стояли бронетраспортеры с антеннами радиостанций, — командный пункт. Не успел лейтенант доложить, где и как меня взяли, — один офицер, в форме гауптмана, подскочил ко мне и срывающимся от напряжения голосом крикнул по-русски:
— Немецкая женщина браль?
— Найн, — тряхнул я головой отрицательно.
— Ja! Ja! — Он размахнулся и ударил меня по лицу.
Очки мои полетели в грязь. Гауптман кричал мне что-то в лицо по-немецки. На шее у него вздулись жилы и побелели немигающие, вытаращенные глаза. В криках я уловил одно слово — «erschiessen», «расстрелять». Потом мне много раз пришлось слышать его, но тут, на переднем крае, где валялись еще неубранные трупы, где люди разгорячены боем и где пристрелить человека — ничто, — тут меня спасло то, на что я не мог надеяться.
Из белого дома выскочили немки. Хозяйка, простоволосая, со сбившимся платком, и за нею — толстые, перепуганные дочери. Хозяйка легко, с быстротой, непонятной для ее возраста, сбежала под гору и, приложив к стесненной груди руки, еле переводя дыхание, начала в свою очередь что-то кричать изумленному гауптману. Она плакала и вытирала концом платка слезы, а потом обернулась ко мне улыбающимся, в слезах, лицом. Девицы жались кучкой в сторонке и кивали головами.
Всю эту сцену — и как гауптман ударил меня, и как подбежали женщины — наблюдал пожилой, молчаливый, невозмутимый оберст. Он молча сделал два шага, нагнулся, поднял очки из грязи и подал их мне, не сказав ни слова.
Меня усадили в бронетранспортер. Долго ехали. Вдалеке синели одетые лесом горы. Тихо садилось солнце. Кончился день 22 апреля 1945 года, — день неволи и день свободы. Куда тянулась дальше нить моей жизни? Польский поэт Ян Каспрович, которому принадлежали стихи о Божьей «невидимке-самопрялке», писал, что свобода добывается в страдании.
Год назад, на Волыни, на чердаке, я мечтал о свободе. Теперь передо мною лежал путь страданий. В конце пути блеснет ли мне луч свободы? Будет ли этот день только днем неволи или так же — днем благословенной вольности? Таким размышлениям предавался я, пока мы ехали до деревни, затерянной между гор в долине.
В деревне я увидел других пленных. Их загоняли на ночевку в сарай. Меня втолкнули в каморку. Там, на соломе лежал красивый, молодой парень в комбинезоне летчика. Его тоже только что привели. Он был воздушный разведчик. Два раза сегодня слетал успешно, — на третий зажгли машину. Штурман был убит, он и стрелок-радист выбросились на парашютах.
— В последний день войны — попасть в плен! — хватался за голову летчик. — Утром сегодня я вел разведку над полем боя в районе Торгау. Видел собственными глазами, как соединялись войска — наши и американские. Ведь это и есть победа — конец войны!
Он плакал, скрипел зубами. У меня тоже сжималось, замирало сердце. Быть бы мне среди своих — праздновать победу. Поехал бы в Москву и жил — пусть в несвободе, зато в относительном благополучии. Но изменить я не мог ничего — ни вчера, ни сегодня. И что завтра должно случиться — того тоже не отвратить. Война кончилась, — худо ли, хорошо ли, я до конца исполнял свой долг. Плен не мог теперь длиться долго. И, если суждено мне было жить, то этот странный плен в день победы означал выход из несвободы — через страдание.
И он положил на меня десницу свою…
Всю ночь приводили пленных. В нашей каморке тесным-тесно. Лечь негде, сидим, поджавши ноги. Тяжелый замок и щеколда на дверях громыхают беспрестанно: открываются двери, вспыхивает фонарик и вталкивают еще кого-то.
— Покурить есть, ребята? — спрашивает только что вошедший осипшим, простуженным голосом.
Щелкнула зажигалка. Блеснула лысина.
— Калинка! — воскликнул я с радостью.
Это был старшина — писарь из штаба дивизии, шинель на нем мокрая; он прятался в прибрежных кустах у какой-то речушки. Шапку потерял. Рассказывает: штаб перехватили по дороге от Вайсенберга к Бауцену. Тут же двигался и санитарный батальон дивизии. В санбате служила медицинской сестрой дочь Калинки, красавица с большими серыми глазами. Отец и дочь бежали, когда немцы окружали штаб. Но солдаты прочесывали лесок и кустарники, — схватили в плен.
— Просил, чтобы не разлучали нас, — сказал Калинка. — В лагерь будут отправлять, так чтобы вместе.
— Отправят, — вздохнул летчик. — На тот свет…
— Ну уж и на тот свет! — возразил Калинка. — Наплюйте в глаза тому, кто скажет, что пленных расстреливают, — одна пропаганда. Не первую войну воюю, — пропаганды этой и в пятнадцатом году наслушался, а теперь так и совсем объелся.
Опять загремела щеколда и распахнулась дверь. В дверях немецкие солдаты с винтовками.
— Komm!
На дворе светало. Стояли штабные автомобили, грузовики-фургоны. Из домов выбегали офицеры: тащили железные ящики, портфели, чемоданы. Вдоль деревенской улицы взад и вперед сновали мотоциклисты. Иной останавливался, — в черном резиновом плаще, забрызганный грязью, — и бежал в дом: привез донесение. Пленные толпились у сарая, переговаривались, гадали: куда поведут теперь? Во мне атрофировались все чувства, кроме двух: зрения и слуха. Из отрывочных разговоров немецких солдат, из вопросов и возгласов мотоциклистов я понял, что мы находились в штабе танковой дивизии «Бранденбург», что немцам удалось выбить наших из Вайсенберга и Бауцена и что, несмотря на частичный успех, немцев все-таки одолевают наши.
Штаб дивизии «Бранденбург» переезжал на другое место. Поведут ли туда толпу военнопленных? Никого еще не допрашивали. Или в допросах нет больше смысла? К чему сведения, если война все-равно проиграна? Тогда что делать с пленными? Гнать на работы, — куда? Половина Германии занята американцами и англичанами, половина — русскими. В эти последние дни войны пленные ничего не стоили: ни как источник информации, ни как рабочая сила. Немцам мы были не нужны! И немцы не были бы немцами, если бы они нас не уничтожили. Мысль эта, как острый луч, прорезалась в моем сознании. Помню, хорошо помню, как пришла ко мне необычайная ясность видения. Все, что происходило вокруг меня, я видел с резкой отчетливостью. Такой физически ощущаемой чистоты мысли, позволявшей видеть не только то, что есть, но и то, что вот-вот будет, я не испытывал в своей жизни ни до того, ни после.
Подошли два переводчика. Один говорил по-русски, другой по-польски. Объявили: всем офицерам отойти в сторону, стать в шеренгу. Мы с летчиком переглянулись. Было известно, что немцы в первую очередь расстреливали пленных офицеров. Поэтому наши, попадая в окружение, первым делом уничтожали офицерские удостоверения, срывали офицерские нашивки. Летчики, положим, вообще, отправляясь в полет, снимали погоны: чтобы легче надевать комбинезон, чтобы лямки парашюта не резали плечи. На мне же были погоны со звездочками, — не укрыться. Но я и не хотел укрываться: мое знание мне подсказывало — надо выходить! Многие правила, которыми можно было руководствоваться во время войны, теперь, при конце войны, оказывались негодными. Как раз теперь, когда немцев не интересовали никакие пленные и вся эта толпа заранее слагавшимися обстоятельствами обрекалась на расстрел, теперь не имело смысла укрываться. Напротив, следовало выйти в офицерскую шеренгу. Может, это шанс? Может, выигрыш во времени? Молча, одним взглядом, я позвал с собою летчика, товарища по каморке. Он повел глазами, — отказался. В комбинезоне, без погон, он втиснулся вглубь толпы, в грязное серо-шинельное месиво.