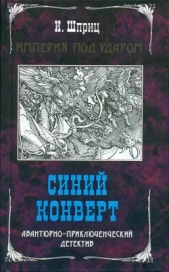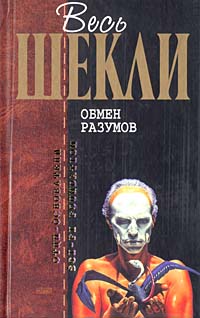Умрем, как жили

Умрем, как жили читать книгу онлайн
В основу романа положены события, происшедшие в одном из городов Центральной России в грозный год прихода фашистских захватчиков на нашу землю. Герои книги — молодежь, участники подполья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уже в который раз перебираю выписки.
Вот показывает некто Кудрявцев:
«Сизов был арестован по месту работы на электростанции. Будучи освобожденным из-под ареста, Алексей упорно отмалчивался и ничего нам не сообщил. Он лишь сказал, что арестованных с ним по одному делу гестаповцы сильно избивали. На наш вопрос, били ли его, Сизов ответил, что лично он избиениям не подвергался. И это была правда, поскольку следов побоев мы не видели».
Ах, Алексей Никанорович, а сегодня, когда вы рассказываете о вашем мужестве, у меня волосы становятся дыбом!
Как вы так можете, Алексей Никанорович? Только послушайте, что показывает ваша жена Секлетея Тимофеевна.
«Мария (сестра Сизова) рассказывала, что ее арестовали в одно и то же время, но по другому делу. То ли в связи с убийством Черноморцева, то ли по обвинению в связи с разведчиками и партизанами. После ее ареста, так сказать, схватили всех Сизовых. Сизов Алексей и Сизова Мария были в хороших отношениях. Алексей помогал Марии изучать немецкий язык».
Ну, Алексей Никанорович, может, вы хоть теперь признаете, что многое из рассказанного вами по меньшей мере не совпадает с тем, что говорят десятки других людей и, что еще хуже, так разнится с тем, что вы сами показывали много лет назад.
Документы разбередили мое сердце, и следующей ночью я опять трясся на полке вагона, катившегося в Старый Гуж. Хотел во что бы то ни стало увидеться с Секлетеей Тимофеевной. Я вспомнил, что в мой прошлый приезд ее не нашел — она жила от Сизова отдельно, — разошлись сразу же после прихода наших. И это показалось мне подозрительным. Я спросил у Сизова, жившего в доме сестры Марии, адрес его бывшей жены и направился к Секлетее Тимофеевне, но оказалось, что она лишь позавчера уехала в свою деревню и вернется в Старый Гуж не скоро.
Стук колес настойчиво вбивал в меня мысль, что отсутствие на месте бывшей жены Сизова было не случайным. Сквозь скупые строки протокольных показаний звучал искренний голос русской женщины. И что больше всего нравилось мне — не чувствовалось ни ненависти, ни озлобленности в отношении к бывшему мужу.
Честно говоря, сидя над этой бумажкой, я дивился следовательской слепоте. Лишь нежелание, вольное или невольное, видеть в Сизове возможного предателя организации могло так застилать профессиональный глаз Головина.
Трехоконный старый домик, полуутонувший в сыром мартовском снегу, скопившемся горой в тесном палисадничке, стоял сиро, но по-утреннему многообещающе тянул в небо тонкий столб дыма.
Я заколотил в дверь тяжелым чугунным кольцом, висевшим на сквозном крюку.
Дверь открыла полная женщина, аккуратно, по-городскому прибранная. Светлое русское лицо с большими серыми глазами, размер которых не могли скрыть даже бесчисленные излучины морщин, слегка портил склад губ, словно перед вами стоял вечно обиженный человек, который никогда не простит миру чего-то своего, затаенного, никому не ведомого.
Не спросив, кто и зачем, лишь мельком взглянув на меня, она ушла в дом, оставив распахнутую дверь, будто приглашение. Из глубины комнаты прозвучал ее сочный голос:
— Заходьте. Гостем будете.
Минуя сени, я сразу попал в горенку. Домик принадлежал к числу тех русских жилищ, в которых бедность объединяет все комнаты в одну. Бокастая русская печь стояла в центре. За цветастой ширмой просматривалась ухоженная кровать с двумя пухлыми и такими же цветастыми, как ширма, подушками. На столе — кружевная скатерка, в нескольких местах аккуратно подштопанная. Над столом — целый иконостас семейных фотографий переходил в настоящий миниатюрный иконостас, занимавший красный угол.
Хозяйка пекла блины. Ухват и три сковороды, стоявших на самом пылу, ходили у нее в руках ходуном, а деревянная ложка, отмеривавшая порцию жидкого теста, как бы плясала в воздухе.
Я невольно залюбовался работой хозяйки. Она заметила это и по-девичьи горделиво закраснелась. Возможно, мне это лишь показалось и розовый цвет ее лицу придавал отсвет печи.
Я присел на краешек лавки возле стола, а хозяйка, словно я был членом семьи или привычным гостем в ее доме, спокойно допекла остаток теста и поставила на стол миску дымящихся золотистых блинов.
— Мил человек, дверью не ошибся? — как бы между прочим, спросила она.
— Что вы, Секлетея Тимофеевна?! — смеясь, ответил я. — Если и ошибся, не признаюсь, увидев на столе такие блины!
Она тихо засмеялась.
— Ну, коль кличку мою знаешь, мил человек, давай снедать. За едой и поговорим. Так-то старой одинокой женщине веселее масленицу править.
Она вышла и вернулась с маленьким пузатым кувшином, по самый край налитым густой сметаной. Плеснув ее в мою миску, сама себе не взяла, а положила немножко медку. Подвинув банку, сказала:
— Коль сладенького захочешь, отведай. И маслица свежего, свово боя.
Мы ели блины, и я исподволь посматривал то на Секлетею Тимофеевну, то на фотографии. На одной угадывался молодой Сизов — этакий франтоватый деревенский ухажер, совсем с недеревенским типом острого лица. Местный фотограф будто специально высмотрел какую-то неприязненность во взгляде. Наверно, выражение вечной обиды в складках губ Секлетеи Тимофеевны тоже от него, Сизова. Недаром говорят, что у супругов, живших долгие годы вместе, не только привычки, но и черты лица подгоняются друг под друга.
Было неловко сидеть за столом, не представившись, и я, как мог осторожнее, рассказал, зачем приехал.
— Знаю тебя, мил человек. Когда прошлый раз навещал, муженек меня, бывший, от тебя в деревню спровадил… — Признание было неожиданным.
— Зачем ему это понадобилось? — боясь спугнуть откровенность, почти шепотом произнес я.
— Не знаю, мил человек. Но муженек у меня не любил и не любит, когда поперек дороги кто станет. Если к чему пошел — жизни не пожалеет, а своего добьется. Пожилась я с ним. Только теперь отходить начинаю…
— А почему разошлись, Секлетея Тимофеевна? Ведь прожили немало…
— Детей у нас не было. Он меня обвинял. Бил даже… Потом оказалось, что в нем червоточина. А годы промчались. Так и остались бездетными. А ушел почему? Как все вы, мужики, коты мартовские — состарилась жена, пора на бабу помоложе менять.
— У меня просьба лично к вам, Секлетея Тимофеевна, — понимая, что говорить на эту тему хозяйке неприятно, сказал я. — Хочу найти правду по тому делу, по которому арестовывался ваш муж и вы сами допрашивались, когда вернулись наши.
— А зачем тебе это, мил человек? — Она испытующе посмотрела на меня.
— Хочу написать книгу о парнях, которые погибли на Коломенском кладбище. Рассказать, как воевали они и что сделали… Чтобы наконец о них узнали люди.
— Мне, старой, видно, тоже не разобраться, — призналась Секлетея Тимофеевна. — Что знала, он, антихрист, из головы своими рассказами выдавил.
Она умолкла, как бы собираясь с мыслями, подоткнула волосы под платок, тяжелым узлом державший не по-старушечьи пышную косу.
— Это он своротил меня на вранье, когда первый раз вызвали в управление госбезопасности. Весь вечер голову морочил, объяснял, что я вербовала в организацию Ваську Соколова, а он, Алексей, вербовал меня. Не было того в жизни. Знала, что кто-то бургомистра ихнего убил. Болтали в доме, что германец долго не продержится, хоть и силен, что пороху у него не хватит зиму нашу пережить. Замерзнет. А коль машин не будет, сам он, фашист, дохленький, и его, как косача, из-под ледка руками брать можно. Мать Алексея научила меня твердить, будто Мария не была в гулянье с немецкими офицерами и в Германию не добровольно подалась, а насильно ее погнали, и она где-то убежала и вот вернулась…
Секлетея Тимофеевна отодвинула миску с остатками блинов на самый край стола, будто мешала эта миска сказать все, что задумала.
— Мы жили голодно при немцах. Получал муж денег да хлеба немножко. Мать же его питалась за счет пайка, который давали Марии как немецкой подружке. Помню, еще зимой сорок второго, когда Алексея освободили из-под ареста, в первый же вечер он сказал мне, что неплохо бы приготовиться к встрече Красной Армии. Немцы не очень духу бойкого, и в тюрьме он разного наслышался. А перед Родиной надо быть чистеньким, как после бани. Дружок у него банщиком числился, и Алексей все горевал, что того расстреляли и теперь парная — не парная. С того дня он много рассказывал о подпольной организации. Как-то велел сходить к Соколову Ваське, работавшему в депо, но я прихворнула и никуда не пошла.