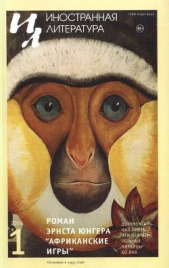После десятого класса

После десятого класса читать книгу онлайн
В книгу вошли ранее издававшиеся повести Вадима Инфантьева: "После десятого класса" - о Великой Отечественной войне и "Под звездами балканскими" - о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Послесловие о Вадиме Инфантьеве его книгах написано
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вот они — настоящие чины!
На его погонах переливалось несколько крупных красивых снежинок.
Выслушав наши рапорты, командир полка долго сопел, и в носу его что-то пощелкивало, потом посмотрел на меня мрачно и бросил:
— Идите командуйте.
И уставился на Астафьева тяжелым, неподвижным взглядом.
Выйдя, я невольно задержался за дверью и услышал, как Евсеев негромко произнес:
— Что мне делать с тобой, Астафьев? Я доложил, что излишне поторопился и наказал тебя своей властью. Ступай под арест, а там будет видно, самовольщик. Ведь дезертирство хотят пришить.
Как я плохо разбираюсь в людях! В сорок первом там, на позиции в Автове, я относился к Евсееву пренеб-решительно, посмеивался над его полнотой, медлительностью, замкнутостью и музыкальностью его носа, может, потому, что в моем мальчишеском сознании всякий потерпевший неудачу или наказанный начальник не заслуживал уважения. Правда, это не относилось к лейтенанту Курдюмову, но, может, только потому, что мы очень хорошо знали его, его характер, привычки, слабости...
А сейчас мне даже стало стыдно за мое прежнее отношение к Евсееву. Да, он толст, медлителен и носом выводит рулады, но он понимает людей. Как он смотрел сейчас на Астафьева! И я понял, что он отстоит своего офицера. Достаточно побыть полчаса на батарее, чтобы убедиться, что ее командир толковый и умеет привлечь к себе людей, и Евсеев это хорошо знает и знает, почему Астафьев совершил такой тяжелый проступок.
Личный состав батареи ко мне относился настороженно и недружелюбно. Когда я обращался к кому-либо, тот вставал, вытягивался, отвечал сухо, точно и бездушно, и в глазах маячили огоньки неприязни. Офицеры слышали про «козу», часто расспрашивали о ней, но мнения своего не высказывали. За столом бросали на меня короткие испытующие взгляды и молчали. Я понимал их чувства. На самом деле: ушел командир батареи, так неужели Воскобойников или Коваленко не могли заменить его? Они знают свою батарею, они на ней с первых дней войны. Так нет, прислали «варяга», и хоть бы авторитетного или в возрасте, а то обыкновенного лейтенанта, даже без всякого военного образования, школяра, десятиклассника, который моложе всех на батарее, который каких-то полгода покомандовал взводом, а потом возился с одной-единственной пушкой, а ему дают сразу батарею с орудиями, приборами, со всем хозяйством и сотней людей, из которых многие годятся ему в отцы. Да, на месте Воскобойникова и Коваленко я думал бы так же.
Ничего не поделаешь, я назвался груздем. Надо терпеливо и спокойно входить в жизнь батареи, без лишней строгости, но и без подсюсюкиваиия. По своему опыту я знаю, что подчиненные очень тонко чувствуют, когда их начальник начинает подлизываться к ним, и презирают его за это, конечно не открыто, а в душе. Но это все равно сказывается на действиях подразделения в целом.
Кое-какие порядки, введенные в свое время Астафьевым, мне не нравились, но я подумал и решил, поскольку они не очень влияют на боеспособность батареи, примириться с ними. Изменятся условия, часть порядков естественно отомрет, а остальные постепенно я заменю на те, которые сочту нужными, а пока пусть все идет, как было. Минула неделя, и люди стали ко мне привыкать.
В одно ненастное утро враг пошел в контрнаступление. Артиллерийская подготовка началась залпом «дурил» — реактивных шестиствольных минометов. «Дурила» слабей «катюши», но и под его огнем поймешь, что такое кромешный ад.
Авиация из-за плохой погоды не налетала. Это тоже интересно. Обычно немцы для наступления выбирали хорошую погоду, надеясь на свою авиацию. А теперь стали наступать в плохую погоду, когда авиация скована. Значит, поменялись местами и их сорок первый год — впереди.
Мы лежали ничком в мелких траншеях и орудийных котлованах, нас подбрасывало горячим воздухом, било комьями мерзлой земли по спинам, разноголосо и густо свистели осколки. Я часто высовывался из своего ровика, боясь прозевать атаку танков. Наши орудия бьют по ним точно и лучше, чем противотанковые, потому что имеют более тонкую наводку и от выстрелов орудие не смещается на грунте, так как держится за него четырьмя стальными лапами с глубоко забитыми стальными клиньями.
Мимо прополз санинструктор, волоча на плащ-палатке раненого солдата. Санинструктор часто останавливался, подбирал свалившуюся с груди бойца оторванную руку, клал ее на место и волок дальше.
Снова обрушился шквал мин. Стало темно и душно. Сквозь грохот я уловил вопль:
— Санитаров! В прибор попало!
Артиллерийская подготовка длилась более часа. Враг не продвинулся ни на шаг. Но от огня его у нас были большие потери.
На горе спасали укрытия, вырытые в полный профиль, у нас же, под горой, все было насыпанным из дерна и быстро разрушалось. Мина угодила в бровку окопа ПУАЗО, разбила прибор и свалила половину расчета во главе с командиром отделения. Были разбиты приборы управления второго орудия. За один час с небольшим батарея потеряла четверть личного состава и оказалась неспособной вести огонь по высотным целям.
После контрнаступления противника неприязнь батарейцев ко мне усилилась, словно я уговорил немцев пойти в контратаку. Солдаты, наверно, рассуждали так: «Был командир батареи старший лейтенант Астафьев — и все на батарее ладилось, а как пришел этот невесть откуда взявшийся лейтенант — и сразу двадцать пять человек на батарее не стало, разбит прибор, разбито орудие...»
Конечно, всем понятно, что я тут ни при чем. Но на фронте почти каждый становится чуточку, но суеверным. Слишком часто жизнью играет слепой, нелепый случай. Мина могла не долететь до прибора на два метра, и никто бы не пострадал. Это все прекрасно понимают, но невольно стараешься найти какую-то причинную связь с тем или иным случаем. И невольно ищешь добрые приметы. Это сказалось и в стихах поэтов, и во фронтовых песнях;
И вправду поверил тогда я,
Крещенный в смертельном огне,
Что буду я жив, дорогая,
Пока ты грустишь обо мне.
А кто теперь грустит обо мне? Только родители. Больше некому.
Со времен англо-бурской войны пошла примета — третьим не прикуривать. Э, да что говорить, но хочется верить в существование таких примет, по которым ты можешь остаться в живых.
Вот поэтому и считают батарейцы, что я им принес несчастье. Я это чувствую по взглядам, по интонациям в разговоре. Даже командир полка с укором сказал в телефонную трубку:
— Что ж ты... Едва начал командовать — и такие потери.
— Но при чем тут я, товарищ ноль-первый?
— Ты-то, конечно, ни при чем,— вздохнул в трубку Евсеев и засопел. — Давай укрепляйся. Это не первая и не. последняя контратака. Может, тебе рассредоточиться для других целей?
— Оголим участок, кроме нас, никого тут нет, хоть от штурмовиков прикроем.
— Так-то оно так... Ну ладно, подумаем, действуй.
С утра люди взялись за ломы и лопаты. Орудийные котлованы стали походить на крохотные старинные крепости, окруженные рвами с водой. Вода показывалась с первого же штыка лопаты. Солдаты работали молча, с замкнутыми лицами и не смотрели на меня.
Но неожиданно положение исправилось.
После ненастья подморозило, выдался ясный день. Дали были настолько четкими, что казались декорациями. В небе появился высотный разведчик — «Ю-88Д-1». Как всегда, он шел на большой высоте и тянул за собой совершенно прямую бедую нить, фотографировал, гад.
Он шел точно курсом «ноль», то есть прямо на батарею. Вот были бы на орудиях мои прицелы, а так...
— Высота девяносто! — по привычке доложил дальномерщик, и в его голосе прозвучал укор.
И тут я вдруг вспомнил все расчетные данные для стрельбы по самолету на такой высоте и на таком курсе. Потом я сообразил, почему вспомнил. С этой высоты и курса я начинал свои расчеты баллистических графиков прицела и, поскольку я только начинал, долго бился, ошибался, привыкал к цифрам, и они невольно запали в память. Потом я уже привык и работал почти автоматически движком линейки, не вдумываясь в результаты. А ведь запоминается всегда все первое: первый урок в школе, первая любовь, первый бой...