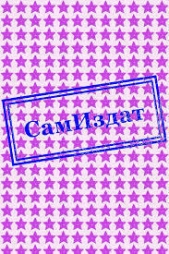Ленинградские тетради Алексея Дубравина

Ленинградские тетради Алексея Дубравина читать книгу онлайн
Эта книга о формировании юношеских характеров в годы Великой Отечественной войны, в дни защиты Ленинграда. Автор сам был участником обороны Ленинграда на протяжении всех 900 дней блокады города; в изображенных в повести событиях отразились его живые впечатления и размышления тех лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Я или мы?
Неприятно себя чувствуешь, когда не встречаешь отклика на свои слова. Как-то еще в Сосновке мне довелось выступать первый раз перед микрофоном. Со мной была заготовленная речь. Но когда меня одного оставили в тихой комнате студии, завешанной одеялами, и я начал говорить в пустоту, я, помню, растерялся, на протяжении всей трехминутной речи не мог преодолеть в себе чувства предательской беспомощности.
Точно так же, по-видимому, я чувствовал себя в расчете «мокрокурых», когда предложил им построить свою небольшую баню. Они глядели на меня спокойными и теплыми глазами, но были невероятно далеки от меня и от бани, как были они далеки вчера вечером от бивака, луны и полковника Тарабрина — в минуту, когда с превеликим усердием работали с котелками.
Догадавшись, что меня никто не понимает (Лапшов и слушать не хотел после вчерашних указаний полковника), я, оскорбленный, вылез из землянки и пошел бесцельно бродить по безлюдному кварталу.
Пощипывал легкий мороз, снег скрипел под ногами, в голове звенела сухая пустота. Может, не с того я начал, не сумел подойти к людям? — думал про себя. — Вот когда по-настоящему обидно: хотел бы что-нибудь сделать, да не можешь — не хватает опыта, знаний и смекалки. Отступать не годится. Назвался груздем — полезай в кузов. Знать бы их мысли, желания, мечты. Размышляют они о чем-нибудь или так уж и совсем не размышляют?
Побродив с полчаса по городу, возвратился в землянку. Вновь заговорил о бане с комсомольцем Сурковым. Во время разговора к нам подошел сутуловатый, с крупным крестьянским лицом и хитрыми глазами рядовой Захаршин, пожилой колхозник из-под Великих Лук. Послушал немного, затем, осердясь, сказал:
— Зря подбиваете, комсорг. Жили без бани — и проживем. А прикажете строить — последние силы в трубу улетят. Мне моих силишек до весны осталось. — И требовательно, твердо закончил: — Не трогайте нас!
Меня осенило: вот она, эта философия, простая как луковица. «Я», «мои силишки», «моя хата с краю»… Нет, приятель, здесь коллектив, здесь — это мы, а не я. И мы, наперекор тебе, поступим по-другому. Тебя война опрокинула в прошлое, а мы должны удержаться в настоящем, не ставь же нам подножку!
Теперь я уже знал, за что можно уцепиться, не знал только — как это сделать. Захаршин незаметно ушел. Сурков по-прежнему непонимающе ворочал круглыми глазами.
— Так что же, товарищ Сурков? Или вы, как этот индивидуалист, рассуждаете?
— Обидные слова говорите, товарищ комсорг, — спокойно ответил Сурков, слегка нажимая на «о» и картавя. — Я до войны два с половиной года на фабрике работал и этаких индивидуальностей сам не переношу.
— Где баню поставим?
— Вон кухня пустая рядом. В аккурат, думаю, сгодится.
Он повел меня к руинам соседнего дома, где под обломками здания чудом остался неразрушенный угол полуподвального этажа.
— Тут и была до бомбежки кухня, — указал Сурков на целехонький угол.
Проникли в кухню через оконный проем. Перед нами открылось просторное помещение с большой кирпичной плитой и набором всевозможных бачков и кастрюль, покрытых известковой пылью. Комната сохранилась в целости, если не считать проломленной и придавленной со стороны коридора двери и развороченного в одном месте потолка. Штукатурка местами осыпалась, но стены были прочны, а единственное окно с выбитой рамой могло послужить теперь дверью.
— Это же находка, товарищ Сурков!
— И я говорю, совсем подходящая квартира. И дырка вон для трубы имеется, и разные баки тут расставлены.
— А далеко ли вода?
— Вода у нас невская, не вычерпаешь. Шестьсот метров от землянки.
— Стало быть, начнем приспосабливать?
— Давай начнем, — не колеблясь, согласился Сурков.
В землянке я подошел к Расторгуеву — второму комсомольцу расчета. К моему удивлению, он не заставил себя уговаривать — согласился сразу, хотя и формально: «Раз надо, значит надо». Лапшов не возражал, чтобы два комсомольца под моим началом занялись переоборудованием «кухни», но выдвинул непременное условие:
— Для меня — пусть сперва снег на биваке разбросают. Командир полка при вас предупредил.
Вместе с другими пошли убирать снег. Я тоже вооружился лопатой: сначала помогал Суркову, потом Расторгуеву. После работы хмурый Расторгуев спросил:
— Почему нам больше других надо? Все будут отдыхать, а мы, будто наказанные, ремонтировать кухню.
Ему ответил Сурков:
— Комсомольцы мы с тобой, Серега, в этом и вся разница.
После обеда приступили к штурму. Молча, недовольно сопя и зло поводя глазами, Расторгуев соскребал с потолка непрочно лежавшие куски штукатурки; Сурков, не торопясь, зашивал листами жести проломленную дверь; мне, по старшинству, достался главный «объект» работы — вычистить, проверить и отладить плиту.
Когда Расторгуев, покончив с потолком, стал «ощупывать» стены и неосторожно сунул свой шест в один из верхних углов, раздался глухой гром: рухнул на пол, чуть не придавив Суркова, тяжелый кусок стены. Теперь уже две дыры сквозили в голубое небо, и новая дыра была куда шире первой.
— Эх, прибавил работы, человек! — обругал Сурков товарища.
Работали, как подневольные, до сумерек. В сумерки, уставшие, насквозь пропыленные известковой пылью, вернулись в землянку. Сразу после ужина Сурков и Расторгуев захрапели, я же, как ни ворочался с боку на бок, уснуть почему-то не мог. Думалось: не зря ли мы затрачиваем силы? Втроем мы провозимся дней десять-двенадцать и то не сумеем всего сделать. Ну почистим, наладим плиту, залатаем дверь — а дальше? Заложить отвалившийся угол, подогнать и навесить новую дверь вместо окна мы не осилим. Эти же, — я с досадой думал о других лапшовцах, — засмеют нас после, поиздеваются вдоволь. Знать бы, что мыслит Захаршин. Вызвал, паук, на борьбу и ждет, наверное, когда мы выдохнемся. Выдохнемся, надо думать, скоро. Потому что получается не борьба, а какое-то благородное мщение. «Я» или «мы» — это верно. Но нас-то всего трое. Трое бессильных дистрофиков с дряблыми поджилками и высохшими бицепсами…
Утром, не глядя друг другу в глаза, мы снова втроем отправились в «кухню». Работали зло, с тупым ожесточением, не говоря ни слова. Дрожали уставшие руки, жалко тряслись колени, порой мутилось в глазах — мы продолжали работать.
Часа через два к нам подошел Демидов, маленький плотный солдат, в прошлом слесарь — бригадир завода «Большевик».
— Зашел поглядеть, что вы тут колдуете.
— В поглядетелях не нуждаемся, — сказал Расторгуев. — Засучай рукава да бери лопату.
— Я мастер по металлу, с кирпичами играть не приходилось. — Повернувшись ко мне, Демидов посоветовал, как лучше поставить жестяной дымоход.
— Советчики нам тоже не нужны. Поднимай-ка носилки, вынесем вот этот мусор, — приказал Сурков.
Демидов подчинился. И проработал с нами до вечера.
А вечером случилось неожиданное. Мы собрались уходить, хотя было не поздно: устали, — и в эту минуту под крышу нашей «кухни» пожаловал весь остальной расчет. Все до единого пришли, во главе с Лапшовым, — и хитрый Захаршин оказался тут же. Последним за солдатами в дверь-окно влез политрук Федотов. Отыскав меня глазами, он улыбнулся, а Захаршину громко сказал:
— Вот они, вчетвером тут канителятся.
— Ну и мы теперича с ними, — буркнул Захаршин.
Как это произошло, политрук Федотов рассказал мне после, когда мы сидели в землянке, в отгороженной клетушке старшины Лапшова.
Вот что он рассказал:
— Захожу в землянку — лежат.
— Почему лежите? — спрашиваю.
— Хвораем, — отвечают.
— Так все сразу и захворали?
— Есть трое здоровых, — говорят.
— Где же эти трое?
Замялись. Старшина объяснил: вместе с комсоргом баню городят. Ну, думаю, понятно.
— Вставайте, будем знакомиться.
Тут же поднялись, смотрят испытующе, — кто, мол, такой и чего тебе, собственно, надобно.