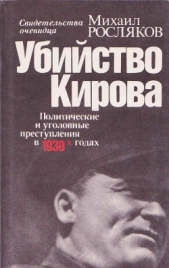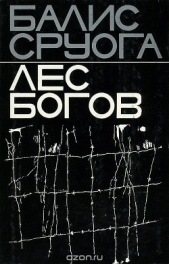Лес богов
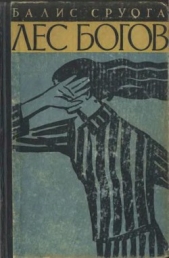
Лес богов читать книгу онлайн
Лес Богов - воспоминания литовского писателя и поэта Бали Сруоги роман, написаны в 1945 году. Она отражает прибывания писателя в нацистском Stutthof концентрационном лагере, в котором Сруога был отправлен в 1943 году. Роман полон иронии. Первый роман, опубликован в 1957 г., уже после смерти автора. 2005 г. по книге снят фильм " Лес богов »(режиссер Альгимантас Пуйпа ).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Родился он и рос в Эстонии, работал у какого-то барона — немца и ухитрился усвоить его мировоззрение и перенять манеры. Бывший бермонтовец, кавалер медали «Железной дивизии», Клаван считал себя выдающимся военачальником и героем. Как репатриант, он в годы войны получил вблизи Познани небольшую усадьбу, хозяин которой — поляк — был замучен в лагере.
Клаван был единственным эсэсовцем в Штутгофе, который читал книги. От чтения у него голова кругом шла. Прочтет какую-нибудь, пусть самую глупую нацистскую галиматью, втемяшится ему в башку очередная блажь и он бежит в канцелярию за объяснениями. Растолковать же ему что-либо было выше человеческих сил. Абсолютный болван нацист-фанатик Клаван не в состоянии был ничего понять.
Каждые две недели Клаван приходил выяснять, действительно ли его фамилия германского происхождения.
— Германского, черт побери, германского! Тысячу раз германского! — кричал я потеряв терпение. Но ровно через две недели Клаван опять требовал доказательств. При виде его я зеленел от злости.
Как-то раз мы с ним увидели через окно канцелярии, как Петере избивал во дворе арестанта. Клаван насупился — он сам никогда не бил — и сказал:
— Нет, мне все же в лагере тяжко. Я вырос в Эстонии. Я человек совершенно другой культуры. Впервые в жизни я увидел в Штутгофе, как избивают людей. У нас в Эстонии никто никого не колотит. Там, как тебе известно, совсем другая культура…
Когда его только назначили в лагерь, он пришел к коменданту Гоппе и заявил что как продукт другой культуры, не справится со своими лагерными обязанностями. Гоппе успокоил Клавана — и он Гоппе, мол враг жестокости. Комендант просил его остаться и выполнять свою миссию по совести. Он даже обещал ему свое содействие в делах совести и в знак дружбы подарил часы.
— Вот они, — Клаван охотно демонстрировал полученные от коменданта часы.
Клаван часто бегал к коменданту, а с коллегами-фельдфебелями не дружил. Они его не терпели. Он искал близости с теми заключенными, которые могли поговорить с ним о книжных премудростях. Придя к Гоппе, Клаван выкладывал ему все что слышал от узников. Его рассказы не были доносами в полном смысле слова, не преследовали дурных целей. Только безграничная наивность развязывала Клавану язык. И кроме того, Гоппе являлся для него непререкаемым авторитетом, олицетворением благородства. Он шел к коменданту, как на исповедь.
Клаван был апологетом войны. Самые светлые его воспоминания были связаны с годами войны. Она с точки зрения Клавана, с беспощадной необходимостью улучшала человеческую породу. Но когда пожар войны перебросился на территорию Германии, Клаван внес в свою теорию существенные коррективы и превратился в принципиального антимилитариста.
Моим приятелям-полякам он говорил, что не может понять литовцев. Всем ведь известно, что после войны Литва будет присоединена к Германии, литовцы получат возможность онемечиться, им будет оказана величайшая честь называться немцами. А они, литовцы, все почему-то ерепенятся, все чем-то недовольны!
Клаван поэтизировал силу. Тот прав, философствовал он, на чьей стороне мощь. Германия понесла, мол большие потери, и ясно как день, что после войны она вправе на что-то претендовать, — как же иначе? Прибалтийские страны естественно, должны принадлежать Германии…
— Господин ротенфюрер, — до фельдфебельского звании он так и не дослужился, — у вас есть усадьба, а у Зеленке нет. А ведь Зеленке сильнее вас. Что вы сказали бы, если бы Зеленке собрал банду таких, как он, пришел ночью и выбросил вас из дома?
— Как можно, — возмутился он, — сравнивать почетную войну с обыкновенным разбоем?
Как ни тщился Клаван провести грань между рыцарски благородной Германией и грабителем Зеленке, разницы я так и не почувствовал…
Осенью 1944 года, когда фронт приблизился к границам Германии, Клаван весьма своеобразно ответил на мое возмущение тем, что меня до сих пор не отпускают из лагеря.
— Я, — сказал Клаван — такой же заключенный как и ты. Я никуда не могу отлучиться из лагеря. Четырежды подавал прошение об отправке на фронт, но власти медлят, не пускают. Выходит, и я арестант.
— Между нами — заметил я, — тем не менее есть некоторая разница…
— Какая? По-моему, нет никакой.
— Мне все же сдается — есть. Например, собака, встретив эсэсовца, может не делать «Mutzen ab», а я должен. Собака имеет право гулять с эсэсовцем по тротуару, а я обязан ходить по середине улицы, месить грязь. Вот если бы меня уравняли в правах с собакой, и то было бы много сделано.
— Ах, вот что, — глухо промычал Клаван. У него было такое выражение лица, будто я дал ему по морде. Но отделаться от него вежливым образом не представлялось возможным. Самозванный немец Клаван надоедал больше, чем урожденный.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
В канцелярии Майера велась летопись преступлений и наказаний заключенных. Заурядные, легкие проступки вносились в «Strafbuch» — штрафную книгу. Тяжелые преступления отмечались особо.
Существовало два вида обыкновенных преступлений — воровство и леность. Совершались они преимущественно на работе. Украдет, скажем, кто-нибудь картофелину, репу, корку хлеба, огурец, помидор — вот и вор! Кражу других вещей отмечали только в исключительных случаях. Преступления второго рода были еще страшнее: стоило узнику в рабочее время перевести дух, заговорить с соседом, закурить козью ножку или упаси бог, вздремнуть в лесу на солнышке как его немедленно производили в неисправимые лентяи.
Эсэсовцы-надсмотрщики избивали проштрафившихся тут же, на месте, записывали их порядковые номера и в конце недели отдавали списки в канцелярию — для внесения в книгу преступлений и наказаний и для наказания соответственно личной резолюции Майера.
Наказания были такими же скучными как и преступления. Оставляли на три дня без обеда, на шесть, на девять… Иногда уменьшали порцию на треть, иногда давали только половину. Порой Майер приписывал проштрафившимся более крепкие лекарства — пять, десять, пятнадцать палок. Наказание больных откладывалось до их выздоровления. Успевшие умереть, от кары освобождались.
Одной из основных моих работ в канцелярии было ведение штрафной книги.
Увы ничего хорошего из этого не вышло. Я не справился! Постоянно понукаемый Хемницем я собирал сведения о совершенных преступлениях только в конце месяца. Преступников набиралось великое множество. Эсэсовцы-надсмотрщики были не больно грамотными людьми. Номера провинившихся они выводили неясно. Я должен был разбираться в причудливых каракулях, отыскивать по номерам фамилии, место работы и жительства заключенных. Все данные записывались и передавались Майеру для вынесения приговора. Работа отнимала очень много времени. К тому же Майер не торопился взяться за чтение штрафной книги. Когда он наконец снисходил до определения меры наказания, я должен был сообщить о ней блоковым и шрейберам. Такова мол воля Майера исполняйте.
Тут-то мне и не везло. Не знаю, то ли по недомыслию эсэсовцев-надсмотрщиков, неясно выводивших номера, то ли из-за отсутствия у меня должной каллиграфической проницательности всегда выходило, что большинство ответчиков были уже покойниками… И номер казалось, соответствовал, и фамилия была подлинной, и год рождения не перепутан, а осужденный лентяй давным-давно глядишь, вылетел через трубу крематория. Наказание же полагалось ему, как назло, особенно большое.
Меньшая, но все же значительная часть преступников оказывалась в больнице. Умер ответчик или выздоровел, разве уследишь, разве всех вспомнишь? Немало было и «преступников», которым давным-давно было наплевать на казенный харч: они были крупными, маститыми «организаторами» и не нуждались в жалких арестантских обедах. Все складывалось так, что почти некого было наказывать. Раз подал я Майеру штрафбух, другой раз…
— Дерьмо, а не книга! — заявил он.
— Что поделаешь, надсмотрщики сами записывали номера.
— Рехнулись они, что ли?