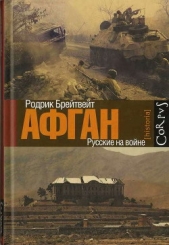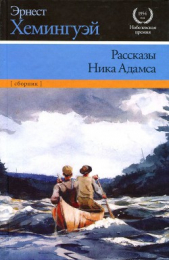Над Кабулом чужие звезды

Над Кабулом чужие звезды читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То, что происходило на земле, он помнит смутно. Сколько времени они бежали с борттехником до того места, где видели сбитый экипаж, не помнит вообще. Три, пять, десять минут?
Дорога обратно была еще тяжелее, Кушнерук — в отличной форме, у него разряд по дзюдо и гиревому спорту, а стометровка — его любимая дистанция. Но тут сбил дыхание, зашлось сердце: скорее, еще скорее! Две обоймы к «Макарову» да граната — вот и все, на что он может рассчитывать, если те, кто сбил вертолет, окажутся быстрее, отрежут путь к своим.
— Ты не оставишь меня, рафик, ты ведь не оставишь меня? — все повторял раненый, мертвой хваткой обхватив шею капитана: сам он идти не мог.
Володя Кушнерук бежал к вертолету с раненым афганцем на плечах.
Они уже начали взлетать, Касперавичюс уже успел разорвать на лоскуты майку, чтобы перевязать спасенного летчика, когда тот встрепенулся. Двое раненых, которых они взяли на борт в Каджаках, погибли при взрыве топливных баков. Но его товарищ, борттехник Нур Ахмад, почему его здесь нет? Он же успел!
Улетать было нельзя. Сделав еще несколько кругов над недобрым тем местом, они увидели борттехника. Ослепший при взрыве, он стоял с залитым кровью лицом на бархане, подняв руки к небу. Словно руками хотел нащупать, удержать их вертолет, не дать ему улететь. Садиться на бархан не стали — зависли, накрыв борттехника тучей песка. Кушнерук, перевалившись в открытую дверь, втащил его внутрь салона.
Теперь все. Ошалевший от радости окровавленный летчик поднял кулак с оттопыренным большим пальцем.
Касперавичюс передернул затвор автомата, и непригодившийся патрон упал на металлический пол салона.
После этого все молчали до самого Кандагара. А там, на аэродроме, уже направившись было к санитарной машине, Нур Ахмад вдруг вырвался из рук медиков, кинулся обниматься, быстро говорил что-то на пушту — языке, которого ни Кушнерук, ни Касперавичюс не знали.
Тем же вечером полковник Эдмундас Касперавичюс, в далеком детстве закончивший музыкальную школу и с тех пор не расстававшийся с аккордеоном, нашел наконец мелодию для стихов своего товарища, над которой бился уже несколько дней. Сложилась песня, в ней были такие строки: «Спит в холодной земле солдат — мой ровесник, товарищ, мой брат. В чем же он виноват?»
Обычная история. Обычная песня. Может, не лучше, но и не хуже тех, что пели в ту пору в Афганистане.
Апрель 1988 г.
Из дневника
Раздался разгневанный звонок из редакции: нужна первомайская тема. А у нас тут рамазан, мусульманский пост. От рассвета до заката нельзя есть, пить, курить и, разумеется, работать. Афганские «братья по разуму» по этой причине ходят голодные, злые, сонные, им, извиняюсь, не до международной солидарности трудящихся.
Да и мне не до нее. Через три дня уезжают жена и сын, которые были со мной здесь два года, но только теперь, после случившегося сегодня, стало понятно, чем все это могло закончиться для нас. Во второй половине дня я торопился дописать материал и выгнал их, чтобы не мешали, гулять, потому что Макар то и дело подходил к закрытой двери кабинета, царапался и сопел, наблюдая за мной в замочную скважину, которая расположена чуть выше уровня его носа.
«Эрэс», ракетный снаряд, разорвался так близко от дома, что дрогнули стекла окон. Секунду после этого длилось безмолвие, а потом страшный, надрывный крик десятков людей разорвал тишину. Я выскочил из дома и побежал туда, куда бежали все, и бог знает, какие только слова не повторял про себя.
Сгустки крови на асфальте, осколки стекла. Этот истошный, надрывный крик, переполненные ужасом глаза людей. Пустые проемы окон такого же, как у нас, жилого дома. Снаряд упал от него в нескольких метрах, рядом с площадкой, на которой играли дети.
— Вставай, маленький, вставай. — Мать пытается поднять с земли окровавленное тело ребенка, еще не веря: он мертв.
Молодой мужчина в оцепенении застыл рядом с тем, что еще минуту назад было его сыном; страшные проклятия срываются с его перекошенных губ. Парень с окаменевшим лицом бросается за руль машины, на заднее сиденье укладывает девочку лет четырнадцати, ее лицо и грудь — сплошное кровавое месиво. Одиннадцать трупов, среди них четверо детей, около двадцати раненых.
Жена рассказала потом, что они стояли именно на этом месте и за несколько минут до взрыва ушли. Снаряд пролетел над их головами, и сын инстинктивно бросился к ней, ища защиты…
«Брать с собой восьмимесячного ребенка в Кабул? Вы сумасшедшие», — говорили в Москве. Но первое, что бросалось в глаза на территории жилого городка посольства, были коляски с детьми. Некоторые из дипломатов приезжали сюда даже с внуками. Дети преспокойно играли и рядом с домом в Старом микрорайоне, где под охраной афганских и роты советских солдат жили военные советники. Отсюда каждое утро увозил в посольскую школу, а потом привозил обратно детей постарше желтый автобус с бронированными окнами. Автобус сопровождали двое солдат в бронежилетах и по очереди кто-то из вооруженных автоматами гражданских пап, многие из которых даже не знали толком, как из этих автоматов стрелять. А в клубе, расположенном в том же микрорайоне, крутили по вечерам кино, днем работали кружки рисования, пения, английского языка. А на новогоднем утреннике, который устраивали в посольстве, были и Дед Мороз, и Снегурочка, и привезенная на самолете из Москвы елка.
И никто не ахал и не охал от ужаса, глядя друг на друга в Кабуле: обычная, ежедневная жизнь тысяч гражданских людей шла параллельно с войной, едва соприкасаясь с ней. Наоборот, все улыбались, читая афганские репортажи приезжавших из Москвы коллег по перу, которым на каждом шагу мерещились опасности и душманы. Ведь даже та коллегиня, написавшая в «Комсомольской правде» о том, как ее охраняли от душманов «автоматчики», как опасно жить в этом городе, — была у нас в гостях и общалась с Макаром, который учился ходить в «этом ужасном Кабуле», и произнес здесь первое осмысленное слово. Правда, им было нечто, напоминающее слово «солдат», и он сразу усвоил, что автомат есть и у него, и у папы, но что со своим, пластмассовым, он может играть, когда хочет, а папин, настоящий, нельзя трогать без разрешения. Но в то же время у него были свои отношения и с солдатом-афганцем, маячившим перед подъездом, и с соседскими ребятишками, которые приносили ему упавшие с балкона игрушки и получали от него в награду за это конфеты. И даже с дуканщиком, которому он самостоятельно протягивал монету, чтобы получить пластинку жевательной резинки.
Что и говорить, все это не было похоже на сладкую жизнь в зарубежье, какой она представляется обычно. Из молочного порошка сначала делалось само молоко, затем оно превращалось в простоквашу, и только потом становилось творогом, которого нет в Афганистане. Виноград, зелень и все остальное часами вымачивалось в уксусе или марганцовке, а для приготовления супа использовалась вода, которую заранее кипятили и отстаивали, чтобы отделить солевой осадок. А каждый летевший в Кабул командированный вез не селедку и черный хлеб, как обычно советским, работающим за границей, а все тот же творог, сыр и вареную колбасу, которая почему-то считалась особым деликатесом. И в каждом доме была керосинка или примус, на которых варили детские каши, потому что частенько целыми днями не бывало света, а стирка устраивалась в те два дня в неделю, когда из труб бежала горячая вода.
Конечно, кое-какую поправку на войну все же приходилось делать. Я бросался по ночам, когда начинался обстрел, в комнату сына и вставал спиной к окну, загораживая его от возможных осколков. Мы торопились вернуться домой с наступлением сумерек, а дверь открывали только на три звонка — условный знак для всех живших в городе «шурави», который был наверняка известен и всей действующей в Кабуле агентуре оппозиции. И тяжко было на душе в командировках, особенно этой весной, когда я на семнадцать дней застрял в Панджшере и каждый вечер пытался связаться по рации с дежурным по штабу армии, чтобы он перезвонил по городскому телефону в корпункт, но телефон в корпункте был отключен, и я извелся от неизвестности и тревоги за своих, которые оставались одни. Правда, в нашем доме жили еще три советские семьи, и все же. И все же не шла из головы история о том, как годовалый сын рассек губу, но медсестра, которая дежурила в тот день в доме военных советников, порекомендовала мне обратиться в посольскую поликлинику: «Вы к нам не относитесь». И попросила не «капать кровью вашего ребенка». И в Афганистане, и в Москве мы ведь все те же.