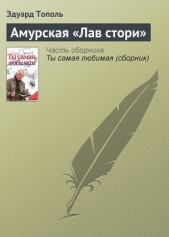Преодолей себя
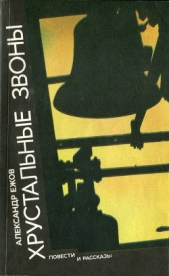
Преодолей себя читать книгу онлайн
Повесть «Преодолей себя» посвящается партизанским разведчикам в годы Великой Отечественной войны. Через драматические обстоятельства познаются характеры героев, их выдержка и преданность Родине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако весной, когда растаяли снега, немцы зачастили, а в начале мая в Большом Городце обосновался фашистский гарнизон. Правда, гарнизон был небольшим — всего человек двадцать, но все же немцы приглядывались ко всему, подмечали, что делается на улице, на полях, на лесных дорогах и тропах. Да и полицаи частенько наведывались в Большой Городец: они знали лучше, чем немцы, местных жителей и могли в одночасье сотворить непоправимую беду. Но тут выручала самогонка. Полицаи были падки на выпивку и, возвращаясь в волостную управу под изрядным хмельком, нередко везли объемистую бутыль
«божьей слезы» самому бургомистру.
В деревне стало неспокойно: люди жили с оглядкой, ежечасно опасаясь попасть в немилость незваным пришельцам. Командовал фашистским гарнизоном в Большом Городце обер-лейтенант Грау. Высокий и худощавый, лет сорока пяти, волосы ежиком, когда он сердился, глаза стекленели и по-совьи округло впивались в собеседника.
Первым делом Грау собрал всех жителей на сходку. Из бывшей читальни по его приказу вынесли стол, и Грау, взобравшись на него, картинно жестикулируя, начал свою речь:
— Сопротивление Красной Армии сломлено, и скоро доблестные войска великой Германии займут Москву и Ленинград...
«В прошлом году об этом же трубили,— подумала Настя,— и снова об этом же трубят. Недаром сказано: “Видит собака молоко, да в кувшине глубоко"».
Грау между тем продолжал:
— Кто будет хорошо служить новой власти и помогать в борьбе с партизанами и саботажниками, тот быстро разбогатеет. Фюрер добросердечен к тем, кто ему верен и кто ему служит...
Грау вылаивал слова пронзительным фальцетом, и эти слова Настя воспринимала точно грязную ругань, понимая без переводчика, и снова подумала: «Никто в холуи не пойдет к вам, никакие посулы не соблазнят» А как было бы хорошо взобраться на стол и выкрикнуть это в лицо немецкому офицеру. Подумала так и быстро подалась вперед, но вовремя спохватилась «Да что я, очумелая! Надо держаться, надо терпеть. Бороться разумно и осторожно... А там придет и на нашу улицу праздник. Обязательно придет!..»
Офицер пообещал дать семян на посев, но с обязательным условием: большегородцы должны осенью сдать германскому вермахту три тысячи пудов зерна. Шутка ли сказать — три тысячи!
— А если мы будем сеять каждый не свою полоску, а как раньше — на общем поле артелью? — спросил у немецкого офицера староста Максимов. — Остались три полудохлые лошади, а тракторов и вовсе нет...
— Сейте,— согласился Грау,— но землю разделите. Колхоза не будет. Вермахт разрешает частную инициативу. За сдачу хлеба отвечает головой староста. Потребуем сполна.
Сказал, словно отрубил, и спрыгнул со стола.
Народ зашумел, заволновался: шутка ли — три тысячи пудов!
А что самим останется? Солома да мякина... Эх, Максимов, Максимов! И зачем пообещал? А вдруг земля не родит и люди не захотят гнуть спину на фашистов?
Семена, которые обещал выделить Грау, не поступили. Собирали зерно с каждого двора по нормам, которые определило подпольное правление колхоза. Действовали осторожно. Предварительно выявили возможности каждой семьи, собирали семенное зерно в основном на добровольных началах. Все знали, что надо сеять: не посеешь, как говорят, не пожнешь. Сеяли рожь старики, женщины и подростки заборонили, и земля пустовать не осталась.
Когда подоспел сенокос, траву косили тоже сообща, артелью. В одиночку косили — что поближе, а на дальних пожнях — для общественного стада. Все шло своим чередом. Но оккупанты стали догадываться о чем-то: все от них скрыть было нельзя, просто невозможно. Грау вызывал Максимова, орал на него:
— Поощрять надо частную инициативу! А у вас что? Скопом работаете.
Максимов объяснял через Настю, изворачивался, как мог, говорил, что в России, дескать, и раньше крестьяне работали общиной и называлось это «помочью».
— Община,— квакал Грау. — Я покажу тебе общину. На веревке будешь
болтаться.
Чертыхался, грозил, стучал кулаком по столу, но Максимов был невозмутимо
спокоен, неторопливо вертел в руках кисет, не спеша свертывал самокрутку, долго высекал кресалом искру, прикуривал, молчал. Но Грау еще пуще свирепел, казалось, он выхватит из кобуры пистолет и выстрелит в Максимова. Настя толкала старосту туфлей в сапог, предупреждала об опасности, а Максимов все дымил и молчал.
— Земля была разделена. — Грау уже сбавлял крикливость на обычный разговор. — Землю поделили, а работаете как?
— Люди привыкли артельно работать,— стоял на своем Максимов. — Привыкли, господин обер-лейтенант. И до колхозов так работали.
Настя переводила слова Максимова, с беспокойством поглядывала на него и думала: «Тяжелую ношу взвалил на свои плечи Алексей Поликарпович. Надо и урожай вырастить, и фашистов обхитрить, раздать зерно колхозникам и партизанам помочь. Оккупанты наседают с каждым днем все наглей, того и гляди, раскроют все планы подпольного колхоза. И что тогда?»
Офицер между тем как бы читал мысли старосты, впивался в него совиными глазками:
— С партизанами связь держите? Под их дудку пляшете?.. Доиграешься, староста. Если хлеб не сдашь сполна, расстреляем.
Максимов отвечал с крестьянской хитрецой:
— Цыплят по осени считают.
Настя дословно перевела эту фразу. Немец не понял, погрозил пальцем:
— Каких цыплят? Я покажу тебе, старый, не только кур, но и скорлупку от яиц. Будешь жрать ее сам, скорлупу. Говори, в чем дело, мокрая курица! Выкладывай мне своих цыплят! Придет осень — новых потребую!
— На осень заглядывать не будем,— уклончиво отвечал Максимов. — Будет осень — будут и яйца. А не будет яиц — скорлупу будем есть.
Настя переводила эту фразу, переиначив:
— Куры много принесут — для всех хватит.
Грау кивал головой в знак согласия и отпускал с миром старосту и переводчицу.
Фашист не раз грозил Максимову и расстрелом, и виселицей, а в лучшем случае обещал посадить в кутузку на казенные харчи. И всякий раз Настя выручала старика, переводила слова Максимова таким образом, что немец оставался довольным и отпускал его. А бывало так: после очередной беседы в комендатуре Грау приходил в гости к старосте на дом, приглашали и Настю. Максимов угощал немца медком, самогончиком с калгановым настоем, затем, если была это суббота, приглашал в баньку, парил березовым веником сутулую спину коменданта, после баньки снова угощались медовухой, и немец добрел, хвастался тем, что в Германии у него хорошая усадьба, что породистый скот, что растет отменный картофель и что этим картофелем он откармливал свиней.
— А что тут? Дыра. И небо у вас дырявое. И лес темный, буреломный: пойдешь — ногу сломаешь.
Настя с усердием переводила Максимову все разглагольствования обер-лейтенанта, Максимов слушал, кивал головой, поддакивал, иногда хмыкал и подливал «гостю» новую порцию самогона. Грау пил, закусывал огурцом и вслух мечтал о том, что окончится война и что он как победитель вернется в свою благодатную Баварию пить пиво, выращивать картофель и отвозить на бойню откормленных свиней.
Уже в конце июля в Большой Городец нагрянула беда, может быть, и не самая большая беда, но она, эта беда, была словно бы предвестницей новых больших бед и новых тяжких испытаний. Из райцентра фашисты прислали комиссию по определению урожая на корню. А что это обозначало — знал почти каждый: после уборочных работ все заберут подчистую. Тут уж как ни крути, а вынь да положь: сам не отдашь — возьмут силой.
Комиссия отправилась в поле, где наливалась рожь. Немецкий интендант, низенький и кривоногий, выпячивая пузцо, быстро перебирая короткими ножками, пошел вдоль полосы, сорвал несколько колосков и своими пухленькими ладонями быстро-быстро начал растирать их. Затем пофукал на ладони, сдунув шелуху, и горсточку зерен ловким броском отправил в рот, начал жевать. Пожевав, проглотил. Лицо расплылось в улыбке и, подбежав к старосте, на ломаном русском языке начал говорить:
— Путь, путь... Скольки? — И сам себе ответил: — Путь сто. Тяк?