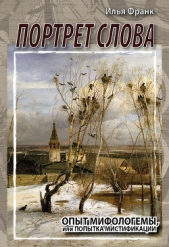Портрет героя

Портрет героя читать книгу онлайн
Автор романа — известный советский художник Мюд Мариевич Мечев. Многое из того, о чем автор повествует в «Портрете героя», лично пережито им. Описываемое время — грозные 1942–1943 годы. Место действия — Москва. Главный персонаж — 15-летний подросток, отец которого репрессирован. Через судьбу его семьи автор показывает широкую картину народной жизни в годы лихолетья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— …дашь ли ты коробку от своего игрушечного трамвая?
Я знаю, что этот трамвай — самая большая для него ценность. Он молчит, и только через какое-то время я слышу его ответ:
— Да.
Платок уложен в яркую большую коробку, сверху мама кладет несколько новогодних звездочек, и я ахаю — так красиво у нее получилось!
— Подарок должен преподноситься серьезно, торжественно. Он должен быть хорошо и красиво упакован. — И мама перевязывает коробку шелковой ленточкой, извлеченной из тронка. — А теперь — спать!
Но сама она, обернувшись к тронку и разложенным на тахте вещам, остается так сидеть, освещенная светом коптилки. И когда я ложусь, мне кажется, она плачет. Я напрягаю слух, и сердце мое сжимается… Да, она тихо плачет там, за стеной. Я слышу шорох укладываемых вещей, скрип закрываемого тронка… Коптилка гаснет.
— Ты спишь? — тихо спрашиваю я брата.
— Да, а что?
— От дяди Васи не было письма?
— Нет. Но я знаю, — шепчет брат, — он жив. Он сейчас едет в танке и большая пушка наставлена вперед!
V
На следующий день после школы я иду в домик Героя. Толкаю дверь и попадаю в темный коридор. При моем появлении кудахчут и хлопают крыльями в решетчатом ящике куры. Я нащупываю скобу обитых клеенкой дверей, но они уже отворяются изнутри, и я вижу вчерашнего мужчину с толстым носом.
— Помните: чтобы завтра все было готово… Как я говорил!
Я пропускаю его, и все, что успеваю заметить в сенях — это большой портрет в тяжелой раме, блестящий угол пианино, аккуратно накрытые половиком вещи и ковер в углу.
Я вхожу в комнату.
— Здравствуйте!
В ответ на мои слова из-за стола встает женщина.
— Ты от тимуровцев, что ли?
— Нет… я сам.
— Са-ам? — удивленно переспрашивает она меня.
— Вернее, не совсем сам… Меня мама послала.
Я достаю из сумки перевязанную красной ленточкой коробку. Женщина настороженно смотрит на меня.
— Что это?
— Это… — и я произношу заученную речь: — Это вам подарок от моей мамы с изъявлением уважения и поздравлением!
При этих словах пестрая ситцевая занавеска раздвигается, из-за нее показывается смеющееся лицо девочки лет четырнадцати. Я краснею и, стараясь не обращать на нее внимания, продолжаю:
— Все мы очень рады и счастливы, что…
Женщина берет коробку и, развязав ленточку, открывает ее. При виде платка лицо ее расплывается в улыбке.
— Мне! — говорит она радостно. Вынув платок, набрасывает его на голову и подходит к зеркалу.
— Спасибо, сынок! Передай своей маме большое спасибо! Что же ты стоишь? Садись.
Я сажусь на стул и осматриваюсь. На стене напротив меня висит портрет человека с тонким носом, пушистой бородой и крестом на шелковой рясе.
— Кто это?
— Это… это — отец Иоанн Кронштадтский. — И женщина крестится на портрет. — А вы… безбожники?
Я киваю, а она снова крестится и вздыхает:
— Что ж! Кому что дано… На все, видно, кажному дан закон.
Напротив окна стоит большой комод, украшенный вышитой кружевной салфеткой. На нем — две вазы граненого стекла, из которых торчат пучки крашеного ковыля. Посреди комода — громадный глиняный кот с выпученными глазами. Он покрашен блестящей черной краской, а усы посеребрены, и на нем — настоящий шелковый бант.
Женщина бережно снимает платок с головы и, выдвинув ящик комода, убирает его туда.
— Ты, сынок, чей же будешь?
Я говорю, что я — сын художника, и объясняю, где живу. Она всплескивает руками, на секунду исчезает в соседней комнате и возвращается с большим картоном, с которого стирает пыль рукавом. Она ставит его на стул, и я вижу ее комнату, изображенную очень живо масляными красками.
— Ваш, — обращается она ко мне вдруг на «вы», — ваш батюшка рисовал.
Приблизившись ко мне и нагнувшись, она спрашивает вполголоса:
— А что же, отец… жив?
— Не знаю.
Она вздыхает и садится рядом со мной, и я смотрю на работу и вижу в ее углу четкую подпись отца.
— Как тебя звать-то?
Я отвечаю, и она снова вздыхает, а девочка за занавеской хихикает.
— Что-то мудрены стали имена больно. Да ты русский ли?
— Русский.
— Не похож на русского-то… И носик у тебя тонковатый… Да у нас тоже был такой-то… с именем Авиатор. Авиатор Иванович… Сейчас в тюрьме сидит, за хулиганство, значит. Карточки подделывал… А ты, сынок, приходи завтра, попозже, часов в одиннадцать. Патрулев не боишься? Нет? Ну, вот и приходи. Я тебе дров дам!
Я прощаюсь и ухожу. Выйдя в коридор со мною, она со вздохом бросает взгляд на кучу вещей в углу, где среди картин и ковров стоит всем нам знакомый портрет вождя: он идет по блестящим от дождя камням площади, улыбаясь в усы и заложив руку за отворот шинели.
VI
В школе — в коридорах, классах — я слышу только одно: сегодня — съемки Героя!
— Ты пойдешь? — спрашивает меня Славик.
— Обязательно! — отвечаю я, глядя в сонные глаза Говорящей Машины.
Теперь, когда Славик узнал, что я был в доме Героя, он снова сидит рядом со мной. «Теперь на вас — благодать!» — сказал бы Аркадий Аркадьевич… Но я чувствую, что прежнего не вернешь.
Говорящая Машина что-то бормочет, вышагивая как солдат. А я пишу, думая в то же время, с какого урока мне удобнее всего удрать, чтобы не пропустить съемки, которые, по слухам, должны быть сегодня в конце дня. На урок Нащокиной я хочу остаться, чтобы не огорчать ее, тем более что ее прозвище Онжерече пошло от меня: говоря нам о древнерусской литературе, она все время повторяла: «Он же рече» — и «Вот вам, пожалуйста!», как говорят на нашем рынке, продавая всякое барахло.
…Вот она входит, стуча своими подошвами, и кладет на стол журнал.
— Ребята, — говорит она, — сегодня, как вы уже знаете, рядом с нами должно произойти необычное событие. Мы живем среди множества людей; все они как будто бы похожи на нас, на своих соседей, но, — и она улыбается, — к счастью или к сожалению, — все люди разные. Разные не только по виду, привычкам, но — что самое главное — по поступкам. Ибо только поступки и дают нам самое точное определение, кто мы есть. Событие, которое произошло на близкой нам всем улице, — событие громадного для нас значения! Молодой человек, старше вас всего на пять или шесть лет, — Герой нашей замечательной страны! В наше тяжелое время… он — наш защитник! И я понимаю, как вы радуетесь этому Наша страна жива сейчас только благодаря таким людям. Я хочу вам все это сказать еще и потому, что… как я думаю… — улыбка смущения появляется на ее лице, — многие из вас пойдут на него посмотреть. Но это… не совпадает с нашими уроками. Мы надеемся пригласить его в нашу школу, тем более, он учился в ней до войны. Но неизвестно, сможет ли он прийти к нам… Поэтому те, кто уйдет с уроков для того, чтобы не в кино, а на своей улице увидеть такого человека, я думаю, поступят правильно.
Внезапно наш класс разражается аплодисментами.
— Тише, тише… — Онжерече поднимает руку — и вовремя. Потому что именно в этот момент дверь класса тихо открывается и появляется физиономия Изъявительного Наклонения. Он обводит нас пристальным взором, но мы молчим, и он закрывает дверь.
— Навуходоносору — слава! — говорит кто-то, и бледные щеки Онжерече окрашивает румянец.
Мы со Славиком пробираемся с нашего четвертого этажа на первый. Школьники по одному и группами выходят из школы и идут на улицу Подойдя к нашему переулку, мы видим толпу народа, окружившую домик, над которым возвышаются на высоких помостах прожекторы и съемочный аппарат. Милиционеры на храпящих лошадях, качаясь в седлах, отжимают толпу от отгороженного веревками свободного места перед домиком. Он сияет под лучами прожекторов новой краской, забор вокруг палисадника починен, из трубы с новым колпаком идет дым, распространяя запах березовых дров. А все остальные дома на нашей улице стоят обшарпанные, покосившиеся, и на их обшивке тут и там зияют темные дыры на месте оторванных досок. Окна домика чисто вымыты, и хотя на них, как и на всех, наклеены крест-накрест полосы бумаги, они не напоминают наших жалких окон, большинство которых забито железом и фанерой и украшено торчащими трубами «буржуек».