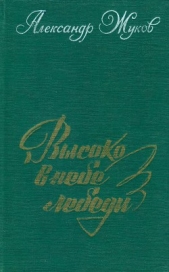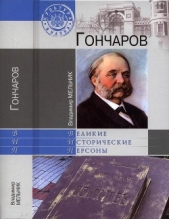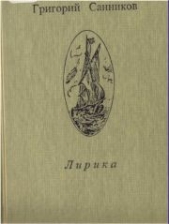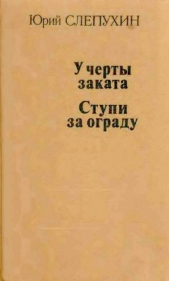В сорок первом (из 1-го тома Избранных произведений)

В сорок первом (из 1-го тома Избранных произведений) читать книгу онлайн
Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с немецко-фашистскими полчищами («Теперь — безымянные…»), и все советские люди участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни. Драматические по событиям, тональности и краскам, произведения несут в себе оптимистическое звучание, ибо в них в конечном счете торжествуют дух и воля советских людей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Бери… бери… — раздавали носильщики хлеб. — Комарова, получила? Федор, это твой… Ленка, не хватай с-под низу, все одинаковые… Нина, Тамара… Кто еще без хлеба?
Хватило точно, на каждого пришлось по караваю, глазурно-блестящему сверху, шершаво-мучнистому снизу, с шелушинками капустных листьев, на которых караваи лежали в печи. Николая Ивановича тоже наделили караваем, и он, не ожидая такой его тяжести, едва не выронил хлеб из рук…
Еще с десяток минут суеты, кутерьмы, перекличек, потом студенты разобрали рюкзаки, мешки, обтерханные чемоданы, обвязанные веревками, и нестройной толпой двинулись из деревни, унося с собою запах поля, соломы, ржи, которым они пропахли насквозь, истомно-сладостный дух горячего еще хлеба, только что покинувшего родившие его печи. Впереди, там, где был Ольшанск, минутами глухо гремело, это доносились бомбовые залпы немецких «юнкерсов», ребята и девушки шли туда, в ту сторону, на этот гром, шагать им предстояло всю ночь, и никто не знал, что сулили им этот их путь, гром впереди, но в настроении студентов не было уныния, боязливости, страха; тревожность обстановки, напротив, даже как-то бодрила, подстегивала их, они стремились домой, в свой город, а главное — у всех было гордое, радовавшее, возвышавшее сознание, что они честно работали, до самой последней возможности, до близких уже залпов артиллерии, исполнили свой долг до конца. Это было их первое такое дело в жизни, настоящее и по-настоящему взрослое, когда они чувствовали себя уже не детьми, не подростками, а нужными работниками на нужном месте, в одном строю со всем народом, видели необходимость и явственную пользу своего труда и своих рук…
Ночь опустилась мягкая, черная, влажно-сырая, из степи подувало вперемежку то прохладцей, то накатывали волны застоявшейся дневной еще теплоты. Тихо шуршали в темноте, под дуновениями ветра, невидимые травы, смутно белела полынь на обочинах, где-то вверху скрипуче, точно это двигался тележный обоз и скрипел немазаными колесами, кричали растревоженные журавли, раньше срока покидавшие свою родину, гонимые из нее войной. Тяжкий, обвальный гром глухо и грозно ворчал впереди, во мраке, где зарницами дрожали белые вспышки, и такой же гром, еще мощнее, басовитее, ворчал позади, и там тоже мелькали зарницами вспышки и прозрачно алела кромка горизонта, — не последним светом зари, ее уже не было, она истаяла, погасла, а отсветом пожарищ, разгоравшихся все шире, все сильней, все ярче…
Неповторимо, прекрасно молоды были студенты, и как, откуда было знать им и то, что никому из них не забыть этой ночи, что с теми, кому суждено будет пережить войну, навсегда, на все длинные годы, неразлучно, невытравимо останется ее трепетный, как бы пугливый мрак, наполненный бесконечной тревогой, ее бархатное тепло и родниково-свежая прохлада, скорбный плач журавлей в небе, горькое чувство беды родной земли, теплый, домовито-материнский дух ее хлеба, что несли они с собою в руках…
18
А гороховский народ, та его половина, что осталась в деревне, стоял кучками на улице — возле правления, хат, глядел на зарево, стараясь угадать, где это горит, Липяги или Волоконовка, или то и другое вместе. По направлению вроде бы Липяги, а по расстоянию — похоже, что Волоконовка. Не разберешь ничего; вон, левее, вспухает еще одно зарево и еще…
Антонину мучило, что она не сообразила, — не послала верхового в Ольшанск, когда перебило телефонную линию. Уже вернулся бы, чего-нибудь привез… А теперь — поздно. Или все же послать? Но кого? Она стала перебирать в памяти. Ни одного годного для такого дела мужчины, — или старики, или мальцы. На мальца полагаться ненадежно, и струсить может, и не отыщет кого надо, сам толком не скажет и ответа путем не поймет. Может, кого из женщин? Кого же, кто из оставшихся смог бы доскакать и быстро вернуться?
В той части небосклона, где розовело зарево, вспыхивали яркие точки, одни, посверкав недолго, гасли, другие повисали в небе на одном месте. Было непонятно, на чем они держатся, почему так долго горят, какое их назначение, зато чувство подсказывало, что огни эти — дело врага, это ему они нужны зачем-то, наверное — чтоб не мешала ночь, чтоб раздвинуть ее тьму. Иногда с земли косо или совсем круто начинали мелькать вверх красные огоньки, вдогон друг другу, нижние быстрей, верхние уже чуть сбавив скорость, но все равно нижние не могли их догнать, и так они протягивались цепочками, растворяясь в черноте. Спустя время докатывался мелкий треск стрельбы, такой частой, что получался один звук, похожий на то, как рвут надвое кусок плотного коленкора. Как грузные шмели, в черном небе гудели бомбардировщики, их гуд назойливо всверливался в уши, от него уже болезненно ныла голова, уже не хотелось слышать этот гуд, а он все не прекращался, не утихал, сверлил и сверлил…
Хоть кто-нибудь поехал бы через деревню, сказал бы хоть словом, что там — впереди…
На большаке опять слышался сильный, какой-то подземной глухоты шум густого, напряженного движения, слитный гул многих моторов; эхо путало этот хор звуков, иногда начинало казаться, что движение направлено не от фронта, а как раз к нему, на зарево, на вспышки ракет и свечение фронтовых «люстр»…
Иные из жителей, кто заявил днем, когда готовился обоз, что остается, не поедет в отступление, не выдержали, вдруг засобирались, суматошно кинулись запрягать последних кляч, отыскивать хоть какую упряжь. Но всем, кто хотел, было не поместиться, и большинство нагружали пожитками огородные тележки, тачки, чтобы, впрягшись, тащить их на себе, своею силой.
Одна Макариха относилась к происходящему так, будто ничто не удивляло и не пугало ее, все разворачивалось именно как хотела, желала, ждала ее всегда злорадственно настроенная к людям, никогда никому не подарившая никакого добра душа. Как и днем, при красноармейцах с бомбами, точно на каком-то посту стояла она в калитке своего дома, в Колькиной засмыганной телогрейке, скрытая темнотой, зловеще-черная с головы до ног, пристально за всем следящая и в непонятном своем злорадстве точно бы глубоко довольная про себя тем, что идущая беда так грозна, неотвратима, что ею настигнуты поголовно все деревенские, все ее, Макарихи, соседи, близкие и дальние, и такая на улицах тревога, беготня, суматошливые сборы.