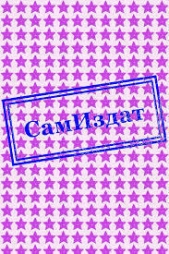Ленинградские тетради Алексея Дубравина

Ленинградские тетради Алексея Дубравина читать книгу онлайн
Эта книга о формировании юношеских характеров в годы Великой Отечественной войны, в дни защиты Ленинграда. Автор сам был участником обороны Ленинграда на протяжении всех 900 дней блокады города; в изображенных в повести событиях отразились его живые впечатления и размышления тех лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вопрос будет в президиум.
— Пожалуйста, Трофимов, — я взял карандаш.
— Социализм, как известно, уничтожает мораль рабов и господ и провозглашает равенство трудящихся. А как будут жить при коммунизме? Описал ли кто-нибудь моральные законы коммунистического общества?
Зал загудел от удивления. Только Трофимов и мог придумать такой невероятный прыжок из третьей пятилетки в готовый коммунизм. Но кто ему ответит на этот вопрос? Я, например, не берусь.
Руку подняла Катюша, горячо спросила:
— Вероника Семеновна, почему современные поэты не пишут стихи о любви? Пушкин писал, Лермонтов писал… Что же для нас никто написать не хочет?
— Пишут и для нас, — крикнул ей осмелевший Пашка. — «Стали, побольше бы стали. Меди, железа вдвойне!»
Пашкины слова потонули в хохоте. Сконфуженная Катя показала Пашке энергично сжатый кулачок.
— Правильно говорит Ильинская, — зашумел в углу Петька Родионов, отличник девятого класса. — Последний поэт, писавший о любви, был Александр Александрович Блок.
В зале стало шумно и жарко. Я попросил успокоиться и соблюдать порядок, не то мы безбожно затянем собрание, не успев разобраться во всех его вопросах.
В наступившей тишине Катя бросила мне в руки легкий бумажный шарик. По ее примеру в президиум стали подавать записки другие. Мои обязанности неожиданно усложнились: надо было руководить прениями, следить за регламентом, разбирать записки и в то же самое время слушать говоривших: интересно ведь, что говорят.
Предоставил слово Родионову, сам сел читать записки. Петька говорил о каких-то недоразумениях в отношениях между парнями и девушками. «В этом виноваты и девушки и ребята. Больше, думаю, все-таки ребята…» Катя в записке спрашивала: «Правда ли, что Павел Трофимов не признает никакой любви и музыки? Или он ломается?» — «Ломается!» — кивнул я Катюше, а про себя подумал: кто же все-таки должен отвечать на такие вот записки — докладчики, председатель или те, о ком в них спрашивают?
Отложил записку в сторону, развернул, другую. Петька между тем продолжал:
— Я предлагаю… Тем комсомольцам и комсомолкам, которые не хотят установить между собой товарищеские отношения, предлагаю объявить общественное порицание.
— Правильно! — крикнули в зале.
— Если это касается меня…
— Касается, — простодушно подсказала девушка, сидевшая под развесистым фикусом.
— Значит… — Петька немного смутился, но фразу закончил достойно. — Значит, и мне отпустите по заслугам.
Ему аплодировали. Больше других старались девчонки девятого класса.
За ним вышел Юрка. Он начал с опровержения реплики Пашки: не только, мол, о стали, о чушках чугуна и угольных разрезах пишут современные поэты — пишут и о звездах, пишут и о любви. Дело в том, однако…
Я не понял, в чем, по разумению Юрки, заключалось дело. Все мое внимание захватила новая записка. Я читал ее и переживал необычное волнение: одновременно мне было и неудобно, и вроде неприятно, и неспокойно, и радостно, и немного стыдно. Думалось, все девушки в зале с лукавой настороженностью следили за моим поведением, я же не поднимал на них глаз. Полуприкрыв записку, чтоб не видел Виктор, я читал ее и перечитывал несколько раз. «А кого любит А. Дубравин — в нашей школе или на стороне? К. К.» Кому понадобилось знать, кого любит Дубравин? Может, он никого не любит. И что означают эти «К. К.»? Почерк круглый, с наклоном влево — определенно девичий почерк. Но чей? Валя ни за что не спросит. Почерк не ее. Вон она сидит рядом с Катюшей, обе чему-то улыбаются, — на меня она даже не смотрит. Эх, Валентина!..
Мы не закончили дискуссию в тот вечер, дважды собирались еще. И всего, разумеется, не разрешили. Но мы повзрослели в дни этой дискуссии. Жалко, не догадались провести ее раньше: раньше бы начали умнеть и взрослеть.
И действительно, с этого шумного вечера мы по-другому взглянули на мир и на самих себя. Девчонки как-то разом все похорошели и стали вдруг загадочней. А парни просто посерьезнели. Катюша по этому поводу у нас на комитете заявила:
— Ребят как будто подменили. Какие все культурные и умные. Вот бы всегда они такими были.

Андрей Платонович Костров
Он приехал к нам откуда-то с Урала и с первых же дней завоевал симпатии. Не старый еще и уже не молодой (ему было за сорок), он оказался прямой противоположностью своему грузноватому предшественнику — и в темпераменте, и в манере держаться на уроках, и главное, в откровенно выраженном подчеркнуто не безразличном отношении к своим предметам. Уроки литературы и языка, благодаря страстной влюбленности Андрея Платоновича в русскую речь и нашу словесную культуру, неожиданно стали в нашем представлении самыми важными, самыми интересными предметами. Мы многим обязаны своему учителю.
— Если вы хотите знать, что такое настоящий человек и чем он отличается от пустозвонного ничтожества, читайте русских классиков, — говорил Андрей Платонович. — Читайте и ищите, непременно найдете, где они гневны, непримиримы и беспощадны в изобличении трусости, лжи, лицемерия и малодушия. Читайте и обязательно думайте, почему эксплуатация, неравенство и бедность искони считаются врагами человека и люди всю свою жизнь, всю сознательную историю боролись и борются за их уничтожение.
Так говорил он на комсомольском собрании. Он говорил, и глаза его блестели — гневные, большие, с черными зрачками. А начал цитировать Чехова — «В человеке все должно быть прекрасно…» — мне показалось, будто в этих разгневанных глазах вспыхнул чудесный огонь — они загорелись иссиня-зеленым пламенем и стали излучать животворное тепло.
Тогда я впервые подумал, что быть педагогом суждено не каждому. Такой воспитатель, как Андрей Платонович, обладает, вероятно, прирожденным даром; этот дар заключается в том, чтобы уметь передать не только идею, основную мысль сообщаемых сведений, но вместе с нею, не стыдясь собственных чувств, показать и свое человеческое к ней отношение. Не потому ли, что далеко не все обладают таким драгоценным талантом воспитателя, многие добрые советы проходят сквозь наши юные души, словно сквозь редкое сито, оставляя на их поверхности только куски хорошо известного или чего-нибудь слишком уж удивительного. Возможно, я ошибался.
Жил Андрей Платонович в, маленьком деревянном доме в углу школьного сада. Жили вдвоем: он и его единственная дочь Настенька, ученица седьмого класса. Когда мы окончили школу, Настенька перешла в восьмой и мечтала со временем стать драматической артисткой. Мать Настеньки, инженер-технолог, умерла; после ее смерти Костровы и приехали в Сосновку. Многие девчонки из школы завидовали Настеньке: и тому, что отлично училась, и главным образом тому, что всегда красиво и со вкусом одевалась. Настенька не обращала на девичьи пересуды ровно никакого внимания.
Сдав последний выпускной экзамен, мы зашли к Андрею Платоновичу поблагодарить за наше воспитание.
— Спасибо, спасибо, друзья, — говорил учитель. — Желаю вам всего доброго. Но знаете, что я скажу вам? Где бы вы ни были и что бы ни случилось с вами в будущем, никогда не забывайте милую Сосновку. Условились?
Пашка хотел было выяснить, как следует понимать это пожелание, но тут прибежала румяная Настенька (в руке у нее был утюг, в другой — стопка белья, перевязанная полотенцем), Андрей Платонович заторопился, и нам пришлось уйти.
— Приходите-ка завтра на Оку, и мы не спеша потолкуем о звездах, — сказал Андрей Платонович. — Настенька против не будет? — шутя обратился он к дочери.
— Если мы сегодня выгладим белье и заштопаем вашу рубашку, завтра вы свободны, папа, — в тон ему ответила Настенька.
— Вот и прекрасно! И выгладим, и заштопаем, и завтра проведем деловое совещание.
Назавтра мы встретились в лугах у Старого русла.
Андрей Платонович пришел раньше, облюбовал веселую лужайку на краю откоса и, сидя на камне посреди этой лужайки, щурился на солнечную гладь спокойной широкой реки. На нем была просторная рубашка из светлой бумажной фланели, без галстука, и серые холстинковые брюки навыпуск. Такого по-майскому праздничного мы видели его впервые. Он чему-то мечтательно улыбался, и ласковый ветер с реки кудрявил его полуседую шевелюру. В прибрежных ракитовых кустах мелькало оранжевое платье Настеньки. Она собирала цветы: в ракитнике росли незабудки.