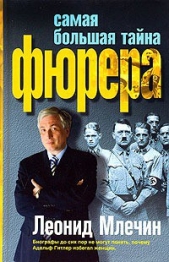На войне я не был в сорок первом...

На войне я не был в сорок первом... читать книгу онлайн
Суровая осень 1941 года... В ту пору распрощались с детством четырнадцатилетние мальчишки и надели черные шинели ремесленников. За станками в цехах оборонных заводов точили мальчишки мины и снаряды, собирали гранаты. Они мечтали о воинских подвигах, не подозревая, что их работа — тоже подвиг. В самые трудные для Родины дни не согнулись хрупкие плечи мальчишек и девчонок.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда он кончил читать, все аплодировали, а я хлюпал носом и искал во всех карманах платок. Гайдар обнял меня за плечи, и мы вместе вышли из читальни.
— Ну, герой, — спросил он, — чего ты разревелся, словно девчонка? И как тебя зовут? И что ты вообще за человек?
Я рассказал ему, что я за человек и как меня зовут. И Аркадий Петрович переспросил:
— Так твой отец, говоришь, очень любил Ленина? И с шестнадцати лет был в партии? Значит, хороший человек твой отец! Так что крепись, мой маленький барабанщик... И старайся никогда не реветь. Ведь отец сердился, когда ты ревел?
Удивительно, как он узнал и про это! А Гайдар шагал со мной по коридору, по-прежнему обнимая меня за плечи, и глаза у него были грустные-грустные.
Мы расстались с ним как друзья, и он пообещал обязательно подарить мне «Судьбу барабанщика».
А сейчас Гайдар на фронте. Пусть он останется живым, ведь не должны же погибнуть все хорошие люди! А когда он вернется, мы встретимся, и я расскажу ему, как я жил во время войны. И он подарит мне свою книгу... Ведь не может Гайдар не сдержать своего слова!
... Мы, мальчишки, не дождались с фронта своего писателя. Он погиб. Но он оставил нам свои книги. Грустные и веселые, простые и мудрые... Они учили нас жить по-настоящему... По-гайдаровски...
Я будто очнулся от своих воспоминаний и услышал голос Черныша, он разговаривал с каким-то военным.
— Прислал бы ты, Петрович, к нам в госпиталь своих артистов. У тебя тут, слышно, и певцы и танцоры есть. Пусть порадуют красноармейцев.
— Сделаем, — обещает Черныш и что-то пишет в настольном календаре.
— Ну, а как твой рапорт?
— Все еще рассматривают. Все дело в инвалидность упирается. ..
— Ко мне бы в госпиталь тебя замполитом, — мечтательно говорит военный. — А помнишь, как на финской я вынул из тебя килограмм осколков?
— Так уж и килограмм! Стал начальником госпиталя — сразу и привирать начал, — отшучивается Федот Петрович.
— Заходи, старина! Вспомним чертовы Териоки и Выборг. Эх, Суоми, Суоми — край чудес и «кукушек»!
— Зайду, зайду, — улыбаясь, говорит Черныш.
После военного появляется в кабинете старушка. Очки у нее то и дело падают с носа: одна дужка отломилась и ее заменяет обыкновенная проволока.
— Слушаю вас, бабушка.
— Внучек, понимаешь, у меня от рук отбился. Курит, пострел этакий, вечерами где-то околачивается. Ну как завлекут его какие жулики в свою компанию? Меня не слушается вовсе. Мы, говорит, сами с усами. А у самого-то еще только цыплячий пушок на губе. Приструни ты его, бога ради. По совести, его и выпороть не грех. Для острастки.
Замполит записывает в своем календаре фамилию «усатого» внука.
— Думаю, бабушка, что и без порки обойдемся. Возраст у него сейчас такой. Как со взрослым, с ним надо обращаться.
— Да и взрослым некоторым не повредила бы «березовая» каша-то, — убежденно бормочет старушка, подхватывая спадающие очки.
Черныш берет их в руки, рассматривает:
— Доверь-ка их, бабушка, нам. Отремонтируем.
— Да небось дорого возьмешь? Да и мастер ли ты по очкам-то?
— Мастеров у меня — тысяча человек. А о деньгах не беспокойтесь. Починим бесплатно. А ну-ка, Леша, дуй к слесарям.
Минут через пятнадцать я возвращаюсь с отремонтированными очками. Черныш потчует бабусю кипяточком, рассказывает ей что-то очень смешное. Бабуся заливается, всплескивая руками:
— Так ты, мил человек, выходит, тоже из деревенских? Вот уж не думала! — Она примеряет очки, довольно говорит:— Ишь ты — и впрямь мастера. Спасибо за чаек, мил человек. Дай тебе господь здоровья.
Федот Петрович провожает старушку до двери и предупредительно распахивает ее.
— А, Сенькин! — говорит он затем без особого восторга. — Проходи, голубчик, проходи.
Гошка ерзает на краешке стула, теребя в руках замызганную фуражку. Он косится в мою сторону, в сонных глазах его — тревога и беспокойство.
Федот Петрович достает из стола какие-то бумаги. Раскладывает их перед собой и спрашивает:
— Как в основном цехе чувствуешь себя, Сенькин? Не трудновато?
Цех как цех. Кормят вот хуже, чем в ремесленном. А работа известно какая — ишачим от зари до зари.
— Зачем же ты себя с ишаком сравниваешь? Ты же человек. У ишака, например, не может быть отец капитаном дальнего плавания. Не так ли?
Мне кажется, что уши у Гошки Сенькина встают торчком. Он снова косится на меня, подозревая в предательстве.
— В этой вот справке черным по белому написано, что отец твой «утонул в Тихом океане при исполнении служебных обязанностей капитана дальнего плавания». И вся команда корабля тоже утонула. Достоверный факт?
Гошка кивает.
— А в этом вот письме отец твой — Сенькин Михаил Михалыч жалуется, что ты не послал ему ни одного письма за два года, хотя адрес тебе хорошо известен. И письмо это, как ни удивительно, не со дна Тихого океана. Откуда — ты, конечно, догадываешься?
Сенькин снова кивает.
— И вот, войди в мое положение, Сенькин. Если верить справке — отец твой мертв, если верить письму — жив. А если жив, то я должен ведь ответить ему. Что же я ему отвечу? Эту вот справочку пошлю? В своем письме он рассказывает обо всей своей жизни, сетует, что она так сложилась. Пишет, что просится на фронт, в штрафную роту хотя бы.
— Смотри-ка! — удивляется Гошка. — Стыдно мне было, товарищ замполит, такого отца иметь. Вот я и похоронпл его. С почетом.
— Не раньше ли времени, Сенькин? Люди ведь меняются. Ох, как жизнь меняет людей! Иди, голубчик, и подумай обо всем хорошенько. И непременно отцу напиши.
Гошка поднимается со вздохом облегчения. Он моргает мне; «Извини, мол, что худо о тебе подумал».
— Спасибо, товарищ замполит, — помедлив, говорит он Чернышу.
— Не за что, не за что, голубчик, — и, подождав, пока Гошка уйдет, Черныш обращается ко мне: — Выкладывай, Леша, что у тебя.
Смущаясь, рассказываю ему, что вот собрал сборник своих стихов. Хочется, чтобы замполит посмотрел его.
— С удовольствием посмотрю, — говорит Федот Петрович и широко улыбается.

Выхожу из кабинета Черныша и вижу в комнате комитета комсомола Нину Грозовую и Павлика. Летчик даже не узнает меня. Нина сидит с широко раскрытыми глазами и смотрит в мою сторону невидящим взглядом.
— Что случилось, Нина? — со страхом спрашиваю я. Она стряхивает оцепенение и говорит:
— Иди, Воронков, иди...
— Нина, я же не Воронков! Я Сазонов! Что случилось? — почти кричу я.
Павлик всматривается в меня, словно видит впервые. Трет рукой лоб и говорит:
— А, Алексей Сазонов! Здорово, брат. Понимаешь, какое дело — Виктор погиб... Сбил одного «мессера», а другой…
Он плачет, вытирая ладонью по-детски крупные слезы, которые катятся и катятся по его щекам...
А я бегу. Бегу по коридору, по улице, и в висках стучит: «Виктор погиб, Виктор погиб...»
На другой день меня встречает на улице Нина Грозовая. Она осунулась еще больше, одни глаза только и остались. Стараюсь прошмыгнуть незаметно мимо.
— Постой, Леша, — просит она. Смотрит на меня внимательно-внимательно. Наконец говорит: — Павлик рассказывал, что Виктору очень понравилось твое стихотворение. Он всегда носил его с собой. В комсомольском билете. И в последнем полете оно тоже было с ним... Комсомольский билет Виктора передан в ЦК комсомола. А листок с твоими стихами Павлик взял себе. На память о Викторе...
В эту смену я работал без перекуров. Я вынимал из своей «бормашины» одну деталь за другой. Я просверлил столько девяток, сколько раньше не удавалось мне никогда. Даже Воронок с его виртуозной сноровкой в эту смену отстал от меня.
Мы шли в общежитие поздно вечером. И опять и опять говорили о войне. Люди, настоящие люди погибают сейчас, защищая Родину... Они гибнут ежедневно, ежечасно. Они не говорят громких слов. Они отдают свои жизни.