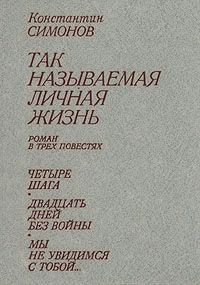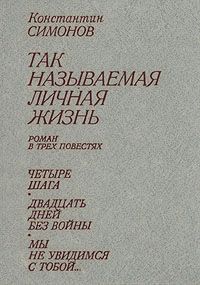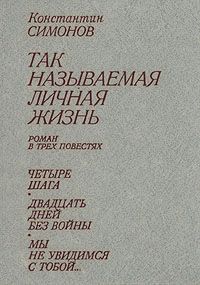Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)

Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) читать книгу онлайн
В томе помещен роман в трех повестях «Так называемая личная жизнь», содержание которого определил сам автор – «о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но триста ехавших к фронту моряков не знали этого. Пролетая мимо собравшихся на улицах людей, они махали руками и кричали, а на заднем борту последнего грузовика, придерживаемый за плечи товарищами, свесив ноги, сидел моряк в бескозырке, надетой вместо пилотки, и, вовсю растягивая баян, играл яблочко. Они мчались воевать и умирать на фронт, под Дальник, мимо Ефимова, ехавшего им навстречу в штаб армии принимать ответственность за будущее, а значит, рано или поздно – за эвакуацию Одессы.
Об этом не хотелось думать, но не думать было нельзя.
17
После отъезда Ефимова Бастрюков помрачнел. Случилось как раз то, чего Бастрюков боялся – Ефимов был назначен командующим.
Несмотря на соблюдение всех внешних норм, положенных в общении между командиром и комиссаром, Бастрюков не заблуждался насчет истинного отношения к себе Ефимова. Правда, в таких делах, как оценка комиссара дивизии, последнее слово было за членом Военного совета, но что теперь стоило Ефимову запросто, с глазу на глаз, сказать члену Военного совета:
– А знаешь, Николай Никандрович, ведь Бастрюков-то не соответствует.
Только на редкость выгодное для Бастрюкова стечение обстоятельств до сих пор заставляло Ефимова скрепя сердце держать при себе свое мнение о Бастрюкове. Ефимов пришел на дивизию перед самой войной с понижением в должности и с репутацией неуживчивого человека. На прежнем месте он не сработался с заместителем, а при разборе дела вспылил и нагрубил начальству. Даже сам Ефимов задним числом не считал себя до конца правым в этой истории. И вот в новой дивизии судьба, как назло, свела его с Бастрюковым.
Поначалу в мирное время ему показалось, что Бастрюков – человек как человек; чересчур любит с важным видом внедрять в подчиненных прописные истины, но это случается и с хорошими людьми…
Что Бастрюков бумажная и вдобавок трусливая душа, Ефимов понял, как только началась война. Но он оценил в Бастрюкове и другое – гладчайший послужной список и готовность в случае необходимости защищаться любыми средствами. Равнодушный к делу и людям, Бастрюков был неравнодушен к себе: принужденный к самозащите, он мог оказаться вулканом энергии. А тут еще предыстория самого Ефимова, которая сразу пошла бы в ход, поставь он вопрос о несоответствии своего комиссара занимаемой должности!
Ефимов понаблюдал Бастрюкова, подумал и на время смирился. И в стрелковых полках и в артиллерийском были на подбор хорошие комиссары; инструкторов политотдела Бастрюков, возмещая на их шкуре собственную неподвижность, беспощадно гонял на передовую; Ефимов нашел там с ними со всеми общий язык и свыкся с мыслью, что у него в дивизии не как у людей: вместо комиссара – скоросшиватель. В общем, он ужился с Бастрюковым, а верней, обходился без него. В этом и состоял секрет их внешне терпимых отношений. Ефимов злился на себя за то, что все это не слишком принципиально, но освободить дивизию от Бастрюкова пока не чувствовал себя в силах, а начинать с ним войну, без твердых надежд на разлуку, не желал.
За все время у них произошел только один по-настоящему крупный разговор из-за Левашова: Левашов во время кровавых сентябрьских боев, когда появились случаи недовода пленных до сборных пунктов, созвал в полку делегатское собрание от всех рот и на нем устроил допрос нескольким пленным румынским солдатам. Пленные – по большей части крестьяне и батраки – рассказывали мрачные вещи о румынской деревне, об армии и о том, что они терпят от своих офицеров. Собрание произвело впечатление на делегатов, и случаи недовода пленных солдат в полку Левашова сразу прекратились.
Бастрюков разозлился – и потому, что ему не понравилась вся эта затея вообще, и потому, что делегатское собрание было проведено без спросу; он обвинил Левашова во всех смертных грехах, включая разложение бойцов, и потребовал, как самое меньшее, снять его с полка. Ефимов в ответ вспылил и сказал, что, по его мнению, таких, как Левашов, надо не снимать, а повышать, потому что живая душа дороже бумажной, а на войне – вдвойне!
Бастрюков, побледнев, сказал, что Ефимову не мешало бы научиться по-партийному разговаривать хотя бы со своим комиссаром.
– А вы меня партийности не учите, – побагровев, сказал Ефимов. – Я, кстати, и постарше вас, и в партии подавней, с шестнадцатого года. Левашова вам на съедение не дам, и не вздумайте капать на меня в Военный совет. Мне с вами воевать некогда, мне с противником воевать надо, но, уж если вы сами проявите инициативу, я в свою очередь выкрою на вас время!
Это была прямая угроза. Бастрюков, не только не любивший, но и боявшийся Ефимова, сказал, что ради пользы дела не станет обострять отношения с командиром дивизии и оставит его невыдержанные слова без последствий.
Тем и кончилась их перепалка тогда.
Теперь Ефимов был назначен командующим, а Левашов, из-за которого тогда загорелся сыр-бор, этот чертов партизан и любимчик Ефимова, сидел рядом с Бастрюковым в хате и разговаривал с шефами.
«Очередное звание ему ускорит и начнет в комиссары дивизии тащить», – с раздражением подумал Бастрюков, одним ухом слушая, как Левашов рассказывает шефам то о том, то о другом бойце, попавшем в полк из Январских мастерских и уже успевшем выбыть из строя за последние две недели боев. Об одном он рассказывал, как тот погиб: «Пошел в атаку, и убили вот так, рядом со мной, как вы сидите», о другом – при каких обстоятельствах был ранен, про третьего, смеясь, вспоминал, как его пришлось силком отправлять с позиций в госпиталь…
Шефы слушали, и Бастрюков тоже сидел рядом, слушал и молчал – ему нечего было добавить к тому, что говорил Левашов. Когда же он попытался добавить несколько слов от себя, чтобы перевести разговор с частностей в общеполитическое русло, шефы внимательно выслушали его и сразу же, перебивая друг друга, снова стали расспрашивать Левашова так, словно тут и не было комиссара дивизии.
Один из пришедших с передовой бойцов, молодой слесарек из Январских мастерских, ласково сказал в разговоре про Левашова «наш батя». «Не батя, а батька Махно», – подумал Бастрюков, глядя на Левашова.
Он болезненно завидовал сейчас Левашову, хотя сам никогда не признал бы это чувство завистью. Он с осуждением думал о том, что Левашов зарабатывает себе в полку дешевую популярность, шутит шутки, ведет себя с бойцами запанибрата и вообще все делает не так, как надо, не так, как сделал бы он, Бастрюков, окажись он на месте Левашова.
Но как бы сделал он сам, окажись на месте Левашова, Бастрюков не знал и не мог знать. Потому что он, такой, каким он был, не мог оказаться на месте Левашова, не мог своими глазами видеть, как тот боец погиб в атаке, не мог знать тех людей, которых знал Левашов, не мог помнить их имена и фамилии. Несмотря на свой здоровый, сытый вид, уверенный голос и привычную фразеологию, полковой комиссар Бастрюков внутренне представлял собой груду развалин. Он бесшумно и незаметно для окружающих рухнул и рассыпался на куски еще в первые дни войны, когда вдруг все произошло совершенно не так, как говорили и писали, как учили его и как он учил других. Теперь, не признаваясь в этом себе, и уж конечно никому другому, он в глубине души не верил, что мы сможем победить немцев. Чувство самосохранения, и раньше, до войны, ему не чуждое, чем дальше, тем больше преобладало в нем теперь над всеми остальными чувствами. Стремясь оправдаться перед самим собой количеством дел и забот, якобы против воли приковывавших его к штабу дивизии, он все более бесстыдно уклонялся от поездок на передовую.
Сидевшие в хате шефы, конечно, не могли знать, что представляет собой Бастрюков, но, как видно, их сердца что-то подсказывали им, да и сам вид усталого, заморенного, посеревшего от бессонницы Левашова, с его перевязанной рукой, с его охрипшим, простуженным голосом, уж больно разительно противостоял виду отоспавшегося полкового комиссара. У шефов из Январских мастерских было молчаливое рабочее чутье на людей, и это ощущали и Левашов и Бастрюков; один – испытывая благодарность, другой – раздражение.