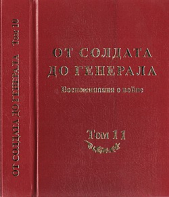Земли, обагренные кровью

Земли, обагренные кровью читать книгу онлайн
Сорок лет прошло с тех пор, как эллинизм в Малой Азии был вырван с корнем. Греков силой оторвали от очагов предков. Это одна из самых страшных глав новейшей греческой истории. Те, кто пережил это бурное время, уходят один за другим из жизни, унося с собой воспоминания о нем. Утрачиваются или покрываются густым слоем пыли в исторических архивах и следы прошлого. «От покойника слез не жди», — говорит одна малоазиатская пословица. Я обратилась к памяти еще живых свидетелей. С горечью и болью я прислушивалась к голосу их сердец, в глубине которых еще хранились воспоминания, как хранятся в божнице свадебные венки и листочки лавра, принесенные из церкви. Образ Манолиса Аксиотиса, от имени которого ведется рассказ, — это образ малоазиатского крестьянина-грека, вечного труженика, пережившего рабочие батальоны 1914–1918 годов, позже одевшего форму греческого солдата, очевидца малоазиатской катастрофы, попавшего в плен и потом вкусившего горький хлеб беженца, сорок лет проработавшего грузчиком в порту, где он стал членом профсоюза, а затем бойцом национального Сопротивления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он сам накрыл стол, принес мясо и фрукты. Он от души смеялся над нашей прожорливостью.
— Ешьте, ешьте, мяса хватит, — потчевал он нас, — сейчас жена пирог с медом печет, я вам дам на дорогу.
Потом он пошел нас провожать. По дороге рассказал, что он офицер, ловит дезертиров, но по случаю праздника на два дня пришел к жене.
Его откровенность растрогала нас.
— Ты, должно быть, добрый человек, — сказал я.
— Не со всеми, — ответил он. — Я человек справедливый и люблю честность. Кто уважает другого, тот уважает и себя. Если бы вам вздумалось обидеть мою жену, вас бы уже в живых не было; я убил бы вас и оставил на съедение шакалам и собакам…
Светало, когда мы подошли к городу Тире. Сердца наши забились сильнее — наконец-то окончатся наши страдания. Я тронул за руку своего товарища.
— Слушай!
С дальних полей ветерок доносил до нас мелодичное девичье пение. Мы ускорили шаг. Песня была греческая. Первые греческие слова после стольких месяцев! Мы остановились, словно завороженные. Даже пение ангелов не произвело бы на нас, кажется, такого впечатления!
Панагис закричал и замахал руками. Девушки, увидев нас, оборвали песню и с криком бросились врассыпную.
— Куда вы? Чего вы испугались? Остановитесь! Мы христиане… Дезертиры.
Слова эти возымели свое действие, и девушки стали подходить к нам. Завязалась беседа. Они рассказали, что живут в разных деревнях, а здесь собирают табак.
— От этой работы спать хочется, вот мы и пели… — объяснили они.
Мы присели отдохнуть. Девушки стали наперебой угощать нас; натащили свежего инжира, белого хлеба, маслин. Панагис совсем растаял, он уже был готов остаться и без конца рассказывать девушкам о наших приключениях. Но я оборвал его.
— Хватит! Столько мучиться, чтобы в конце попасться! Мы должны прийти домой живыми.
И мы снова отправились в путь.
X
Было далеко за полночь, когда мы вошли в Кыркындже. Пустынные улицы, темные окна, запертые на засов двери. Ни сторожа, ни собак. Я постучал в дверь нашего дома. Открыла мать и, увидев меня, обомлела; потом кинулась ко мне, обняла, стала целовать и причитать:
— Сынок мой! Мальчик мой! Как же тебе удалось? Какому святому мне молиться, сердце мое!
Мы называли друг друга ласковыми именами, каких никогда раньше не произносили. Но вот мать словно очнулась и засуетилась. Она принесла воды, накрыла стол. Потом, отозвав меня в сторонку, шепотом спросила:
— Гость останется у нас?
— Да, мать, он должен остаться. Иначе нельзя. Ведь не выгнать же его на улицу!
— Что ты, сынок! О чем толковать! Но знаешь… на чердаке прячется твой младший брат…
— Что ты говоришь! Георгий?
Я бросился на чердак. Мы с братом обнялись, расцеловались. Его трудно было узнать. Борода, длинные волосы, тусклый взгляд. Говорил он с трудом и так ослабел, что еле двигался. Все же он рассказал мне, что проделал маленькую дырку в крыше, чтобы любоваться закатом, который он так любил.
— Да ты нисколько не изменился! Может, скажешь, что и рисуешь понемногу?
Георгий улыбнулся.
— Не-ет! — протянул он. — Руки, ноги и даже сердце — все у меня будто парализовано.
Прошел день после радостной встречи, и мной овладело беспокойство. Три дезертира на одном чердаке — не много ли?
— Я уйду, мать. Поднимусь в горы, там есть тайник в пещере…
Мать побледнела, нахмурилась.
— Господь с тобой! Вот так же и твой брат Панагос сказал. И однажды ушел, а эти собаки убили его. Если ты любишь меня, сынок, не делай этого. Или всем жить, или никому.
Прошло десять дней. Панагис ушел. Ему надо было пройти около семидесяти километров до своей деревни. Я беспокоился за него, но неприятность неожиданно свалилась на меня.
Мать давно уже приютила сиротку, четырнадцатилетнюю Катинё. Это была дочка рыбака Трамуданаса, убитого в Чаглы турками. Его заподозрили, что он держит связь с греческими властями на острове Самос. Однажды вечером, когда он спал, турки ворвались в его дом и всадили пулю в спящего. Трамуданас так и не проснулся. Пуля задела и его двухлетнего сына, который в тот вечер, пригревшись, уснул рядом с отцом. Потом, когда греков выселили с побережья, семья Трамуданаса рассеялась по разным местам.
Катинё с этих пор впала в какое-то оцепенение, ходила молчаливая и рассеянная. Однажды она пошла к источнику, заперла за собой дверь, а ключ вынуть забыла. В это время случайно проходил турецкий патруль, и офицер увидел ключ в двери. Это показалось ему подозрительным, и турки ворвались в дом. Мы с братом не успели бы все равно спрятаться вдвоем. Кроме того, турки затеяли бы обыск, обнаружили бы нас, и мы бы оба погибли. Я подтолкнул Георгия, чтобы он побыстрее лез в тайник, а сам, собрав все свое хладнокровие, остался на месте, надеясь как-нибудь выкрутиться. Я стоял у очага и делал вид, что грею руки. Когда турки вошли в комнату, я обернулся, поздоровался с их командиром и спокойно сказал, что я дезертир, что я убежал из Анкары. Офицер растерялся от такого признания.
— В первый раз вижу дезертира, который не пытается скрыться!
— Скрыться? А какой от этого прок? Разве вы не нашли бы меня при обыске? Не дурак же я, чтобы притворяться, врать и быть за это избитым! Ведь в участке все равно знают, кто я и где должен находиться.
— Собирайся, пойдешь с нами, — сказал командир мягко, словно сочувствуя мне.
Я решил его прощупать, не падок ли он на взятки.
— Вы оказали бы мне большую честь, выпив чашечку кофе, — предложил я.
— Нет, нет! Бери, что нужно, и пошли!
И не успел я оглянуться, как очутился в полицейском участке. Даже с матерью не простился. На сердце у меня легла свинцовая тяжесть, но я утешался тем, что хоть Георгий спасен.
Меня не били, не мучили, а сразу отправили в Азизье, в военную тюрьму, где сидели солдаты всех родов войск. Посадили в камеру, где были греки, турки, армяне — дезертиры, те, кто просрочил отпуск, осужденные за другие преступления. Снова грязь, вши, голод, ни вершка свободного, чтобы лечь. Напрасно мы просили, чтобы нам хоть в уборную разрешили выходить.
На третий день в нашей камере чуть не произошло убийство. К нам посадили группу турецких дезертиров. И вот один из них объявил, что у него пропали пять лир, которые ему дал отец. Они были запечены в лепешку, чтобы не нашли их во время обыска. Он обвинял всех подряд, началась драка, блеснули ножи.
— Аллах с вами! Остановитесь! — закричал вдруг один молодой турок, побледнев. — Я виноват, не грешите зря. Вчера вечером меня начало тошнить от запаха лепешек. Я залез к нему в мешок и съел штуки три. Наверно, я проглотил и бумажку в пять лир. Простите меня!