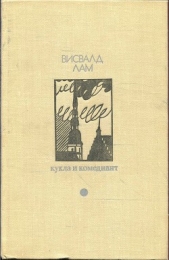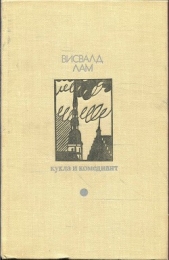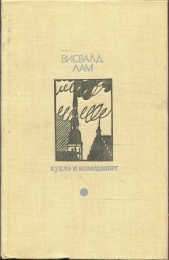Кукла и комедиант
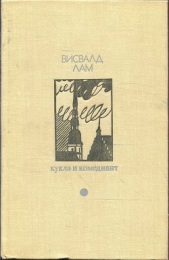
Кукла и комедиант читать книгу онлайн
…В романе «Кукла и комедиант» В. Лам рисует Латвию военных и первых послевоенных лет. Но это книга не столько о войне, сколько о роли и позиции человека, «посетившего сей мир в его минуты роковые». Человек не должен быть безвольной куклой в руках любой силы, заинтересованной именно в безвольности, пассивности управляемых ею существ, будь эта сила бог, фюрер, демагог или молох взбесившейся цивилизации. Какой ценой дается эта независимая позиция, в какой мере человек сам творец своей судьбы, — вот о чем этот роман…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы пили чайными стаканами, и чем меньше оставалось в бутылках, тем больше нарастало во мне чувство радости, тем гуще становился туман, в который я наконец погрузился. Под конец был только этот туман, и в нем плавало жесткое, неулыбчивое лицо Густа. Я держался за руку Придиса — это была рука друга, она не оставит меня, не выдаст. Я сказал, что пора домой.
— Свалится по дороге, замерзнет, — Сергей Васильич.
Густ:
— Пускай уматывает. Отойдет!
Я пьяно бормотал, что только в «Налимы», только бы добраться, там отдохнуть, выспаться…
— Ах, выспаться?! — Кто это сказал? Я уже спал, вокруг меня туман. Неведомая сила вздернула меня на ноги, заставила идти. Мне стало страшно идти туда. Куда? Туда, черт возьми! Темная комната, тусклый угол, какой-то призрачный лунный свет, падающий на кладбищенские кресты, на стены часовни. В том углу пустота, тишина, только тяжкий стон. Либа читала молитвы, но я мохнатой нечисти не боялся. Нет! Страх внушал тот, что стоял за моей спиной и толкал меня в тот призрачный ужасающий угол. Я сопротивлялся, хотел закричать, язык не слушался, сердце дрожало мелкой дрожью. Туда? Нет, нет, нет… А-а-а-а! Хоть бы успеть позвать на помощь. Где же Придис? Черный, черный гроб, в гробу лежит мертвый колдун: черное, черное лицо, глаза, как угли, губы, как деготь; он вытягивает руку, костлявые пальцы хватают меня за волосы, подтягивают голову к колдуну. Губы его впиваются в мое горло, передают слова. Я не хочу их слушать, не хочу! Но эти проклятые слова уже звучат в большой, необычной пустоте, которая во мне самом. Язык у меня оживает.
— Не хочу! — кричу я. — Не хочу!
Придис поворачивается ко мне:
— Ты чего колобродишь, упился, видно! — И с опаской вглядывается в меня. Я дрожу, держу его за руку, сердце колотится, как колотушка, голова как гранитная глыба. Я бормочу:
— Сон видел… Приедкална…
Придис недоуменно:
— Он же давно помер. Как можно во сне видеть, когда в жизни не видывал, даже в доме его не бывал?
Я и потом никогда там не бывал. Только поблизости, когда мы с Придисом уже партизанили. Да, я взялся за оружие, тогда это получилось как-то просто, а может, и не так уж просто. Из волости опять прислали повестку явиться на медицинскую проверку, и я знал, что решать будет уже не прежний врач — работала уже целая комиссия, сплошь из военных. Густ тебя спрячет, сказал Клигис, но Придис сделал недоверчивое лицо. Зента, вот кто устроил нам еще одну встречу с Сергей Васильичем.
— Товарищ комиссар, — начал Придис и покрутил купленным в Риге пистолетом (он ведь знал, что из-за нехватки оружия невооруженных в партизаны не берут, но зато совсем не знал ни настоящей должности Сергей Васильича, ни его воинского звания), — а нам нельзя вдвоем обойтись одной этой штукой? Пока что…
Глаза у Сергей Васильича на редкость суровые. Он спросил даже не Придиса, а меня:
— Решился?
— Да, — ответил я. — Похоже, что другого пути нет.
— Ладно. Оружие тебе я дам. И знаешь, что это за оружие?
Откуда мне было знать.
— Когда-то оно было того погибшего товарища, от которого ты передал сообщение.
Уже позднее я понял, какое значение придавал этому факту сам Сергей Васильич.
Наш отряд засел у шоссе, в конце дороги к «Приедкалнам». Немецкие транспорты пошли сразу же, как только дороги после распутицы подсохли, и Сергей Васильич сказал, что с этими перевозками пора кончать. Мы были хорошо вооружены и готовились к серьезному бою. Не словами, а пулями. Для нас с Придисом это была первая настоящая перестрелка.
— Смерть оккупантам! — сказал Сергей Васильич, но мы с Придисом не были так свирепо настроены. Не каждый, кто может убивать, — солдат, и не каждый солдат думает — только бы убивать.
Наверное, и сам Сергей Васильич не понимал эту воинственную фразу так уж буквально, а поднимал ею наш боевой дух. Борьба будет яростная, и наша кровь польется обильно, и тех и других смерть покосит дай бог! На лицах некоторых товарищей я видел напряженность, граничащую со страхом. Когда затрещат выстрелы, тогда уже не подумаешь, сейчас самое время ждать и думать. И Сергей Васильич считал своим долгом направить наши раздумья в нужном направлении, чтобы они были нацелены по-воински. Приказывать он, понятно, мог только нам, смерть ему уж никак не подчинялась. И все же его присутствие рождало чувство какой-то надежности. Трудно, конечно, объяснить, но в гнетущие минуты ожидания его неиссякаемая воинственность действовала убедительнее, чем все наше надежное партизанское укрытие. Оно дало мне слова и оружие, но не уверенность. Сергей Васильич был как будто весь направлен наружу — громкий голос, движения, действия… А может быть, все это воздействовало и вовнутрь? Подбадривая партизан, он подбадривал и себя? Яркое полуденное солнце, темная стена леса, по обе стороны дороги, которая, как по линейке, вонзалась в горизонт, и мы лежим, припали к земле, срослись с лесом. Была еще роса, одежда вся промокла, но шея у меня взмокла только от пота. Неужели Сергей Васильич, такой неустрашимый и цельный, так выглядит? Я не сомневался, что в нужный момент он первый кинется под пули — «Ура-а-а! За Родину, за Сталина!» — чтобы поднять остальных. А если падет, это что, сознательное самопожертвование или инерция? Старые партизаны божились, что в смертную минуту с людьми случается всякое. Даже обделаться могут. А он? Я это к тому, что сам-то я смертельно боялся именно чего-то постыдного. Не может быть, чтобы со всеми так…
Что в нем такое есть, в этом человеке? Мало я его знал и не мог проникнуть в него по-настоящему. Это-то я знал, что никогда и никому он не давал ни на столько вот усомниться в личностях и принципах, которые ему казались святыми. А вот есть ли у него какие-то сомнения, этого никто не знал. Не похоже, чтобы жизнь для него была четко разлинованным бухгалтерским балансом, нет, не казался он таким ограниченным…
Мы заминировали шоссе, готовые к схватке, и стали ждать. Придис считал, что удаче нравится дразнить охотника. Он по опыту знал: идешь в лес без ружья, серны у тебя чуть не из рук едят, а если при тебе ружье — самые изведанные места вдруг пустыми оказываются. Стало быть, и сегодня улова не будет.
И все же Придис ошибся. Сразу же подошла большая колонна. Рев дизелей все нарастал, — казалось, движется целая танковая армада. Какое-то необычное возбуждение. Взрыв. Большой кузов вздыбился и повалился. В первый момент я выстрелов не слышал, а опомнился, когда сам уже высадил весь диск. Немецкие солдаты беспорядочно били по лесу, но наши ручные пулеметы взяли их под перекрестный огонь. В дорожной пыли мелькали бегущие фигуры. Вставив второй диск, я стал уже искать цель. Серо-зеленый мундир, пригнувшись, прыгал через канаву, мушка обозначилась на его спине, приклад заколотил меня в плечо. Бежавший в медленном повороте, точно неуклюжий танцор, свалился в канаву. Я ошеломленно опустил автомат, встал и направился, сам не знаю, куда. Придис повалил меня на землю.
— Опупел! — взревел он.
Пули еще визжали, но бой уже подходил к концу. Бежали все оставшиеся в живых немцы, с треском горели грузовики, время от времени слышались взрывы, стоны, ругань, вопли. А у меня из головы не выходила канава, в которую свалилось обмякшее тело. Я не пошел в ту сторону, но несколько ночей мне не давало покоя кошмарное воспоминание.
Настроение в отряде поднялось. Было объявлено число погибших, захваченных трофеев, поврежденных дизелей — полдюжины. А я несколько дней думал о совсем других вещах. Я видел не грузовики, а детские коляски на дорожках Верманского парка, мальчишеские игрушки: барабаны, трубы, картонные каски, жестяные сабли, револьверы, стреляющие пробками, заводные танки… «Эй, ребята, давайте в войну, кто будет генералом?» А потом пыльные дороги чужой страны, пули и смерть.
В «Клигисы» мне довелось завернуть в конце июля. Здесь мы чувствовали себя, как в своем царстве. В воздухе чувствовались большие перемены, и сюда уже дошли известия о стремительном ослаблении сил Германии, о покушении на фюрера. Клигис уже не сдавал в волость поставки, а все отдавал партизанам, вот и теперь нас навьючили изрядными узлами. Хозяина нигде не было. Хозяйка рассказала, что редко дома появляется — ночует в сенном сарае с той поры, когда в дом ввалились солдаты. Это были латыши «в страшной одеже», с мертвыми головами на шапках; начальник, молодой, долговязый, нахальный парень, требовал подать ему сюда Улдиса Осиса. Клигис дивился — впервые такое имя слышит. Начальник поглядел-поглядел, вгляделся в сердитый глаз хозяина и сказал, что и он впервые видит такую похабную морду. Да уж верно ли, что Клигис латыш? Латыш, ответил хозяин. Стало быть, латгальскими блохами да русскими вшами оброс, заорал он, остальные заржали. На вопрос, почему он не сдает в волость полагающиеся поставки, Клигис пожаловался, что земля тощая, ни навоза, ни удобрений нигде не достать, сами на одном хлебе перебиваются. Начальник пригрозил, что на обратном пути заглянет к нему в клеть — какой там навоз оставили бандиты. Самого хозяина обвяжет веревкой и протащит через трубу, чтобы красноту с него ободрать. Понятно, что после таких «Милых» посулов Клигис поторопился скрыться из дому.