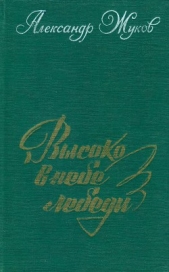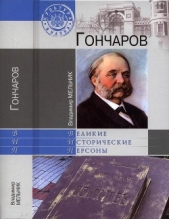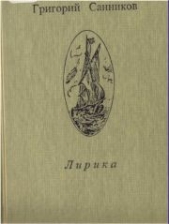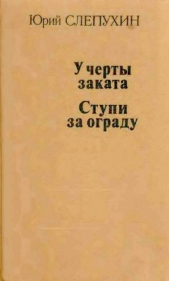В сорок первом (из 1-го тома Избранных произведений)

В сорок первом (из 1-го тома Избранных произведений) читать книгу онлайн
Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с немецко-фашистскими полчищами («Теперь — безымянные…»), и все советские люди участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни. Драматические по событиям, тональности и краскам, произведения несут в себе оптимистическое звучание, ибо в них в конечном счете торжествуют дух и воля советских людей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— …мене сын наказал, Петровна, Алешка, как уходил по повестке, говорит, мама, не дай бог сюда немцы придут, ты с колхозом уезжай, куда колхоз — туда и ты, не отрывайся, с колхозом не пропадешь, прокормишься, свои люди возле будут, поддержат, помогут, а одна ты пропадешь, кому ты нужна-то — одна…
— …ты не гневись, Петровна, худого не думай, как назад все встанет — и мы опять, как были, ехать-то уж больно далеко, он ведь, паразит, до самой Сибири не остановится, а какая там жизнь, в Сибири-то, там от холода одного враз подохнешь, помнишь, те-то, переселенцы наши, чего оттуда писали…
— …всех-то чего ждать, этак еще два дня прособираться можно. Которые готовы, собра́ты — пускай отъезжают, за Доном стренемся, в кучу соберемся. Пункт надо назначить для сбора, и каждый туда держись…
— …прасенка я тебе отдам, а ты мне фитанцию, чтоб, значит, мне с колхоза причиталось… Добрый прасенок, уж семой месяц ему. Руки вяжет, проклятый, прирезать — так соли нет, не запасли, дурные, верили — не будет войны, не будет…
— Да тише вы, хоть не все сразу, понять ничего нельзя! — прикрикнула на галдящую толпу Антонина. — Марья, возьми бумагу, запишем, которые едут. Надо же наконец счет знать!..
Таганкова села за Антонинин стол с тетрадным листком. Своих домашних забот у нее было не меньше, чем у других. Свекра брали на окопы, там он простыл, вернулся чуть живой, и досе его трясет лихорадка; оставаться в плен к немцам Марье было никак нельзя, муж ее был партийный, раскулачивал в тридцатом году, он-то на фронте, а ей бы и детишкам — припомнили, отомстили; стало быть — Таганковой тоже надо было готовиться в отъезд, собирать вещи, думать, как со свекром. К тому же вчера у нее еще и телушка пропала; привязана была за огородной межой, оторвалась — и вот ночь и полдня неизвестно где, надо бегать, искать… Но Мария сидела терпеливо, писала старательно; всегда она была такой, за что ее и любила Антонина и все правленцы: на первом плане служба, старания для людей, а уж потом — свое, личное.
«Студенты!» — ударило вдруг Антонине в голову. Она и забыла про них, прям из ума вон! Надо их с поля снимать, хлеба, продуктов им на дорогу, да пусть идут пешком на Ольшанск, к железной дороге. Вещей у них — одни рюкзаки походные; ничего, донесут на себе… С продуктами надо не поскупиться; хоть и бесплатные они работники — а чего ж задарма труд их брать, колхоз не бедный…
Над бабьими платками, косынками показалась командирская фуражка со звездой и черным лаком козырька, — это вошел с улицы Иван Сергеич.
— Иван, студентам на дорогу что мы дать сможем?
— Да всё уж пораздавали. Не бездонные лари-то…
— Ладно, ладно, ты это брось, знаю я твои замашки!
— Об своих бы надо подумать.
— Всем хватит, и своим тоже. Хлеба печеного сколько в запасе?
— А нисколько.
— Совсем нисколько?
— Брехать не привык. Этим отдали… ну вот, что в балахоне дядька-то был… По вашему же приказу.
Иван Сергеич не врал. Глаза его смотрели ясно. Когда он темнил, у него был другой взгляд — куда-нибудь в сторону, вкось. Да и Антонина примерно помнила, как расходовался хлеб. Действительно, учительский обоз взял последнее.
— Бабы! — сказала она громко, всем, кто набился в правление. — Которые остаетесь. Студентов надо проводить по-людски. Хлеба им на дорогу испечь. Люди работали, старались. Нехорошо будет. Которые остаетесь — стопите печи, спечите хлеб. Его и надо-то по караваю на каждого, значит, хлебов тридцать. Иван муки вам сейчас выдаст. И за труд оплатит. А на дрова — загородку скотную ломайте, она березовая. Все равно уж скотины нет, не нужна она…
14
Некормленая лошадь, брошенная возле правления, тянулась шеей над планками палисадника, голодно рвала вместе с ветками желтеющие листья топольков, с хрупом жевала.
Антонина сердито крикнула на нее, сердито дернула вожжами ей морду, попятила вместе с бричкой. Ишь, дрянь, вздумала деревья губить!
И тут же сама на себя подивилась, на свою привычность к хозяйским заботам. Пожалела топольки! Их ли беречь сейчас!
К студентам в поле мог съездить и кто-нибудь другой, Антонина так и хотела сначала, да подумала: еще порученец не так передаст, брякнет что-нибудь лишнее, напугает, наведет на девчонок панику, тут каждое слово выбирай — взрывы в деревне они ведь слышали! Уж лучше она сама, полчаса всей езды туда и обратно…
Когда Антонина садилась в бричку, что-то точно пошевелилось высоко в воздухе над нею. Она даже закинула голову глянуть — что? Но ничего не было, только блеклая синева с размытой облачной пеленой, — усталее осеннее небо… Когда она смотрела, в нем опять ощутимо, явственно точно бы шевельнулось что-то, сдвинулось и раздвинулось как-то. И вдруг Антонина догадалась: так это же и есть артиллерия, про которую говорил боец с машины, ее далекие залпы. И раньше что-то словно бы ворочалось за горизонтом, с мягким шелестом, как ветер в макушках деревьев, прокатывалось под самым небесным куполом; она это улавливала, но бессознательно, не понимала, что эти вздохи, почти неслышно пролетавшие между землей и небом, есть заглушенный расстоянием голос пушек, голос отступающего фронта.
Поля опять встретили Антонину желтизной стерни, тишиной, пустынностью; редкое вороньё, невысоко подскакивая, перелетая с тяжелыми взмахами угольно-черных крыльев, доклевывало последние оброненные при уборке зерна.
В том, как примолкло пластался желто-бурый полевой простор, открытый, голый, убегая за горизонты, было что-то ждущее, обреченно-приготовившееся. И Антониной опять овладело то недоумение, с которым она жила все эти месяцы войны, которому она тщетно искала и не находила ответа — ни у себя, ни у других, нигде и ни в чем. Как же так получилось, что гитлеровские немцы все прут и прут, уже и Минск, и Киев у них, и нет им нигде удержу, вон она уже где, война, — за теми холмами гремит… Из какой дали, от самой границы — и до полей Гороховки дошла! Сказал бы кто про это в те первые дни, когда по радио марши гремели, а гороховские мужики и парни, сегодня одни, завтра другие, пили, плясали, пели напоследок, как при проводах заведено, уезжали по повесткам в Ольшанск, а там — на войну, с полной уверенностью, что самыми близкими днями враг будет разбит, отброшен и получит справедливое возмездие за свое вероломство и дерзость.