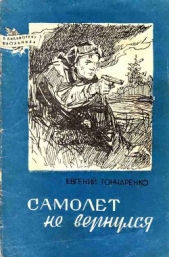Дикий мед

Дикий мед читать книгу онлайн
Леонид Первомайский принадлежит к старшему поколению украинских поэтов. Роман «Дикий мед» — первое его большое прозаическое произведение.
Роман Л. Первомайского необычайно широк по охвату событий и очень многолюден. Основные события романа развиваются во время великой битвы на Курской дуге, в июле 1943 года. Автор с одинаковой пристальностью вглядывается и в солдат, и в генералов, и во фронтовых журналистов, и в крестьян прифронтовой полосы. Первомайский свободно переносится в прошлое и будущее своих героев, действие многих сцен романа происходит в довоенные годы, многих — в послевоенные, и это не только не мешает единству впечатления, а, напротив, обогащает и усиливает его. В «Диком меде» рассказано о тех людях, которые прошли сквозь самые тяжелые испытания и выстояли. Рассказано с нежностью, с глубочайшим уважением к их трудной и сложной внутренней жизни. Кинга особенно сильна поэтичностью, лиризмом. Она напоминает песню — песню о величии человека, о верности, о подвиге, — недаром автор назвал ее не романом, а балладой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для них обоих — для женщины, что не могла забыть мужа, с которым ее так жестоко и так несправедливо разлучили, и для майора с эмблемою справедливости на погонах, который, помимо своей воли, в силу сочетания целого ряда не зависящих от него обстоятельств и причин, был причастен к ее жизненной катастрофе тем, что арестовал ее мужа и должен был арестовать также и ее, — для них обоих не было теперь пути к отступлению. Узнав женщину и заговорив с нею, майор Сербин уже не мог не думать о том, какую роль сыграл он в ее жизни, не мог не вспоминать обо всем, что он хотел бы забыть. То, что он встретился именно с нею и думал о ее случае, было только стечением обстоятельств — он мог бы встретиться с женой другого человека и тогда так же думал бы о других людях, хотя, возможно, в его памяти возникали бы другие подробности, которые в конечном счете не имели никакого значения в сравнении с тем, что делалось уже давно в его душе. И Варвара Княжич, если б она, допустим, сделала вид, что не знает его, тоже не могла бы отгородиться от своих воспоминаний никакой стеною: они были сильней ее, жили в ней постоянно и лишь были прикрыты пеплом повседневных забот.
Если б они могли знать, Варвара Княжич и майор Сербин, о чем думает каждый из них в эту минуту, то, наверно, их грустное удивление возросло бы. Они, конечно, знали, что думают сейчас об одном и том же, но что в их воспоминаниях возникает по-разному освещенная одна и та же картина — этого они знать не могли и этого им не следовало знать, достаточно было и того, что они встретились.
…На лестнице послышались шаги, задребезжал звонок, в одном халате она подбежала к дверям, на ее встревоженный вопрос из-за дверей ответил знакомый голос дворника:
— К вам, Варвара Андреевна.
Она сразу все поняла, потому что хоть и верила в Сашу и знала, что он не может быть причастен ни к какой деятельности, направленной против Родины, но уже неясно ощущала, что не обязательно быть причастным, и ждала, что ночная беда, которая так часто появлялась на лестнице, может подойти и остановиться у их дверей.
Саша сразу начал одеваться. Он не глядел на капитана Сербина, на его вопрос: «Где ваша лаборатория?» — ткнул пальцем в сторону кладовушки, где стоял самодельный увеличитель, снова наклонился и стал завязывать шнурок на ботинке.
Дворник стоял, прислонясь плечом к дверному косяку, и пустыми глазами глядел то на Сашу, то на капитана. Еще один человек в штатском, пришедший вместе с Сербиным, ходил по комнате, засунув руки в карманы, глядя больше на стены и потолок, чем на хозяев квартиры, ошеломленных этим ночным визитом. Варвара, открыв дверь, как была в полинялом старом халате, давно уже для нее узком — приходилось придерживать его на груди, — стояла у кроватки Гали.
Сколько это длилось, она не помнит. Не сходя с места, словно окаменев от предвиденной неожиданности этого прихода, сухими и горячими глазами она глядела на все, что делали капитан Сербин и тот, второй, в штатском.
Августовская ночь кончалась, в окнах на сером фоне рассвета, над низкими крышами вырисовывались редкие кроны старых деревьев, вся улица выступала из предутреннего сумрака медленно, как снимок на негативе в ванночке с проявителем.
Сербин подошел к телефону и вызвал машину. Его спутник в штатском запихал в Сашин чемодан фотобумагу, проявленные и непроявленные пленки, отпечатанные снимки… Сашин фотоаппарат лежал на столе, футляр был раскрыт, тускло поблескивал объектив, ремешок, свернувшись коричневой спиралью, свисал и вырисовывался на белой с синими цветами скатерти. Саша медленно зашнуровал ботинки, достал из шкафа свой лучший галстук и старательно повязал его перед зеркалом. Он был удивительно хорош в ту минуту, когда подошел к Галиной кроватке и взялся своей большой, сильной рукою за тонкие поручни. Так они и стояли по обе стороны белой железной кроватки, в которой, не проснувшись, спала их маленькая дочка.
«Много красивых людей встречаешь в жизни, — думал майор Сербин в эту минуту, — но редко встретишь такое смелое, спокойное и мужественное лицо, как у мужа этой женщины, которая сидит теперь рядом со мной…»
Майор Сербин поглядел на Варвару. На лице ее, большом и добром, не было и тени волнения. Ему показалось оно, насколько он мог припомнить, очень похожим на то смелое мужское лицо, которое он не раз видел после той памятной ночи уже в другой обстановке; скорее всего это было внутреннее сходство двух очень близких по характеру, сильных и верных людей, которых любовь делала еще более близкими и еще более похожими.
Сербин вдруг подумал, что не эта женщина должна была бы сидеть теперь тут, в блиндаже, а ее муж, что он был бы тут на месте как командир или политработник, что все любили бы его за спокойное мужество и суровую, требовательную доброту. Все — и солдаты, и офицеры, и он, майор Сербии, — вероятно, с радостью воевали бы под его командованием и чувствовали бы себя счастливыми, что им приходится выполнять приказы такого командира. Эта естественная мысль так поразила майора, что он даже скрежетнул зубами.
Варвара чувствовала себя ошеломленной и притихшей перед неизбежностью того, что уже давно случилось в действительности, но лишь должно еще было случиться в ее воспоминаниях.
…Под окном послышался сигнал автомобиля. Капитан Сербин подошел к Саше. Дворник — он и теперь работает в их доме, больной, преждевременно состарившийся, потому и не на войне, — дворник отлепился от косяка двери и вытянулся, как перед начальством, перед человеком в штатском, который никак не мог закрыть туго набитый чемодан.
— Вам придется пойти с нами, — обратился к Саше капитан Сербин, и темное лицо его окаменело, а впадины под глазами, казалось, заполнились какой-то черной жидкостью.
Саша, не глядя на него, протянул к ней руки над кроваткой Гали. Варвара, холодея от страха разлуки, бросила свои руки навстречу его большим, надежным рукам, которые теперь словно просили у нее поддержки. Узкий халат разошелся на груди, открывая ночную сорочку; она обошла кроватку девочки и поцеловала Сашу в глаза. Возможно, она заплакала бы, но человек в штатском сказал недовольным голосом:
— Ну что вы, гражданка…
Сказал так, словно ее Саша должен был выйти в соседний киоск за папиросами.
Саша коротким пожатием стиснул ее плечи и опустил руки. Она увидела, как капитан Сербин, проходя мимо стола, накрыл газетою фотоаппарат. Машина на улице снова засигналила.
— Что это было… тогда? — скорее у самой себя, чем у майора, спросила Варвара и удивилась, услышав его голос:
— Не знаю… Никто не знает.
Ей казалось, что она ничего не сказала вслух, как же он мог угадать тот главный вопрос, который не давал ей покоя долгие годы? Может, он ждал этого вопроса, может, этот вопрос преследует его, — не ее, Варварин, а большой вопрос всех, на который придется когда-нибудь давать ответ? «Не знаю…» Может, он боится не столько вопроса, сколько ответа?
«Никто не знает»… Тебе спокойней не знать или притворяться, что не знаешь, — думала Варвара. — Но ты знаешь, не можешь не знать. Еще никому ничего не известно, а преступник уже знает о своем преступлении, знает, когда оно еще не совершено… Знает раньше, чем жертва. Вот поэтому ты и боишься моего вопроса, а я не боюсь спрашивать, не боюсь и ответа, каким бы жестоким он ни был. Легче всего сказать «не знаю» и успокоиться. Но нельзя жить с мертвым сердцем, как ты. Не спрашивать — это значило бы закрыть все пути, остановиться, отречься от жизни, а мы не хотим отрекаться… Вопреки твоей жестокости».
Варвара посмотрела на Сербина: в сером сумраке блиндажика лицо его, окаменевшее и неподвижное, показалось ей неживым: восковая бледность ползла по лицу Сербина, распространяясь от запавших висков по лбу. Сербин глядел в стену блиндажика прямо перед собою и ничего не видел, взгляд его был пустой и мертвый.
«Вина моя слишком тяжела, — думал в это время Сербин, — слишком тяжела моя вина перед этой женщиной и ее мужем… Что же произошло, как могла эта вина лечь на мою совесть? Ведь я не хотел быть несправедливым, до определенной минуты я был уверен, что закон борьбы требует от меня тех поступков, которые я совершал… Я должен был быть карающим мечом революции для врагов, как же случилось, что настоящих врагов расплата миновала, вместо этого падая на головы друзей? Она не знает, эта женщина, что мы учились с ее мужем в одном институте, только он шел на два курса впереди. Он также мог меня не помнить, хотя, возможно, сам подписывал мою комсомольскую характеристику, когда меня посылали работать туда, где мы позже встретились… Кажется, он узнал, вспомнил меня потом. Ни ему, ни мне не стало от этого легче. В институте он был примером для нас, младших, он и теперь остается примером для меня: до конца не дрогнул… И то, что он сказал мне, кем я стал, также шло от его непоколебимой верности тому делу, которое я защищал, как мне казалось. В действительности же он защищал его от меня до последней минуты всей своей верностью и чистотой. То, что он тогда сказал, так и останется на мне навсегда… Хорошо, пусть я стал таким не по собственной воле, а по принуждению, разве это снимает с меня вину? Разве я не виноват в том, что разрешил себя принудить? Не было выхода? У него ведь был, он не испугался его, а я закрыл тот выход перед собой, и ничто теперь не может спасти меня от собственного суда, даже то, что я добровольно пошел на фронт…»