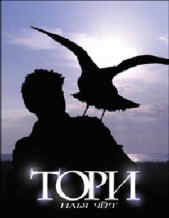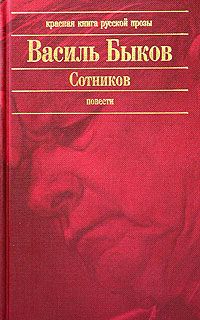Дот

Дот читать книгу онлайн
«Дот» — возможно — самая парадоксальная книга о войне. Не уступая занимательностью знаменитым приключенческим романам, она показывает, как люди, воюя с людьми — с обеих сторон, — остаются людьми. Как в них выживают — вопреки всему! — свет и любовь. Ведь они еще не знают, что на землю пришел Ад.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После фиктивной атаки моноплана-парасоля настроение пленных заметно изменилось в лучшую сторону. Такой пустяшный эпизод — но он сломал напряжение, и каким-то непостижимым образом подтвердил, что война — в прошлом. Больше не придется стрелять; и в тебя — если будешь вести себя разумно — стрелять не станут. Как говорится, плен не мед — зато цел живот. Впереди было много времени, чтобы осмотреться, подумать, прикинуть — что да как. Правда, скорее всего, через два-три дня наши вернутся и освободят, но, с другой стороны, если немцы напали — значит, они уверены в своей силе; вон как Польшу и Францию раздолбали! А наши пока оклемаются, пока сообразят — что происходит, пока раскачаются… Интересно, сколько километров по прямой, скажем, от Бреста до Москвы? Ну — тысяча, ну — полторы от силы. А сколько танк может пройти за сутки? Наш танк не в счет, потому что за сутки он три раза сломается. А немецкий — если с напором, с куражом, через легкие бои — все пятьдесят километров может одолеть. Пусть не пятьдесят, пусть — двадцать. Делим полторы на двадцать… Так ведь уже в начале сентября они должны быть под Москвой!..
Грунтовая, натоптанная дорога без употребления уже зарастала. Пырей, люпин и клевер наступали с обеих обочин. Высоко в небе висели заливистые пташки; еще выше — поймав восходящий поток — плавал ястреб. Далекий трактор все никак не мог прокашляться, иногда выстреливал так, что даже птицы замолкали, и все же первый настоящий выстрел Тимофей распознал сразу. И сразу понял: это не винтовка, это — пулемет. Выстрел щелкнул сзади, в хвосте колонны. Тимофей замер, и когда тут же простучало еще три раза подряд, присел, успев швырнуть на землю Залогина.
Через выгон, сближаясь с колонной, мчался немецкий мотоцикл с пулеметом в коляске. Трое конвоиров были уже убиты; четвертого пулеметчик прострочил на глазах у Тимофея. Солдат не успел даже сорвать с плеча карабин, пули отшвырнули его; он свалился в траву тюком, будто и костей в нем не осталось.
Но следующий солдат опередил пулеметчика и выстрелил в упор. Правда, его тут же сшибла коляска, и все остальное время, как позже вспоминал Тимофей, немец бился на спине, норовил выгнуться, упираясь в землю пятками и затылком, его что-то колотило изнутри, он срывался и начинал выгибаться снова, и опять срывался, и все время кричал, кричал непрерывно.
Однако пулеметчика он убил.
Пулеметчик отвалился в сторону, и, подброшенный на кочке, выпал из коляски.
Мотоциклист резко затормозил, сдал назад, выпрыгнул через коляску (левой рукой уперся в бак мотоцикла, правой — в сиденье, и все это легко, стремительно: не выпрыгнул — перепорхнул) к своему товарищу, нагнулся над ним… Чумазого лица мотоциклиста Тимофей не мог разглядеть, но во всем его облике, в каждом движении, в этом полете через коляску было столько знакомого… Неужели — Ромка?.. Ну конечно! — это же Ромка Страшных! — признал Тимофей. Он-то считал, что Ромку сразу убило. Ведь во время боя на заставе Тимофей так его и не приметил. Даже успел пожалеть о нем. И не потому, что в бою ему бы цены не было, — чем-то он запал в душу…
Колонна уже лежала — и пленные, и конвоиры. По эту сторону уцелели трое солдат. Двое из них бежали без оглядки, но третий (он был в голове колонны, на глаз — метрах в ста пятидесяти) стрелял с колена, причем не спешил, тщательно прицеливался перед каждым выстрелом. Он посылал пулю за пулей, только все зря: он не мог справиться с руками (да что руки! — его всего колотило), хотя, возможно, такой это был стрелок.
Начали пальбу и остальные конвоиры. Стреляли не целясь, спешили, да и неуютно им было, ведь в трех-четырех метрах от них лежали враги. Еще минуту назад пленные — подавленные, покорные, — в новой ситуации они могли вдруг очнуться, выйти из гипноза плена, вспомнить, что они — солдаты, обученные драться и убивать. От любого из них теперь можно было ждать, что он бросится на тебя. Ведь не успеешь винтовку повернуть. А если набросятся вдвоем, втроем?..
Поэтому один из конвоиров — выстрелив — отполз на метр; опять выстрелил — и опять отполз. Удивительно, но и остальные конвоиры — вроде бы не отрывая глаз от мотоциклиста — заметили этот маневр — и тоже стали отползать.
Что-то случилось с Ромкой. Его стремительное движение пресеклось так же вдруг, как и возникло. Склонившись над пулеметчиком, он застыл. Вряд ли это был шок. Любой, хоть немного знавший Ромку, заявил бы убежденно: Ромка и шок — вещи несовместные. Но вот — случилось. Ступор. Потом, когда через час они уминали немецкую тушенку с немецким же хлебом, Тимофей спросил его: «Рома, неужто тебя так ошарашило, когда ты увидал, что твой пулеметчик убит?» — «Не понимаю — о чем ты?» — удивился Ромка, продолжая жевать, наслаждаясь этим — ведь целые сутки мечтал об этой минуте! — «Но я же видел! — настаивал Тимофей. — Ты сидел над ним вот так, сидел и сидел…» — «Да?» — спросил Ромка, но по всему было видать, что спросил, как говорится, для поддержания разговора. У него была счастливая способность целиком погружаться в то, что делал. А уж если он ел… Короче говоря, было похоже, что эти секунды ступора выпали из его памяти. Впрочем, возможна и другая версия. Возможно, где-то на дне его сознания жило поразившее его впечатление: перегнулся через край, глянул — а там бездна. Она летит тебе навстречу, притягательная и непостижимая… Есть вещи, которые лучше не вынимать из старого шкафа. А то ведь потом придется носить это на себе…
Вот война: один, любопытствуя, высунет на миг из окопа голову — и ее тут же невесть откуда прилетевшей пулей пробьют; по другому лупят из нескольких стволов — а он как заговоренный. Уже не меньше десятка пуль пытались найти Ромку, но даже следа на земле не оставили. И выстрелов он не слышал: они были сами по себе, он — сам по себе.
Но затем две пули — одна за другой — продырявили борт коляски. Они и разбудили Ромку. Он медленно поднял голову, поглядел на дырки. Медленно обвел взглядом лежащую колонну. И пленных, и конвоиров. Медленно сел, привалившись спиной к мотоциклу. Он был еще где-то там, куда он только что заглянул, но окружающий мир уже захватил его в свою сеть, уже входил в него, втискивался через поры кожи в каждую клеточку его тела. Ромка ощущал себя столь огромным, столь доступным и притягательным для пуль…
На его месте кто-нибудь другой — да кто угодно! — немедленно бы что-то предпринял. Постарался бы исчезнуть (стать невидимым! или уменьшиться до таких размеров, чтобы даже самый меткий не мог вцелить; выпасть из этого пространства: был — и вдруг вместо человека осталась дыра — вот вам!) или переметнуться к пулемету, переметнуться так быстро, что никто б и не успел сообразить, что происходит. И сразу — не жалея патронов — точно в цель — в одного, в другого, в третьего — как в кино о легендарных стрелках Дальнего Запада…
Но он не шелохнулся.
Это его и спасло.
Было что-то завораживающее в его отстраненности, в пластике его тела. Он был как во сне, и этот сон наяву передался всему окружающему пространству. Его гипнозу поддались и пленные, и конвоиры, которые вдруг перестали стрелять. Замолкли пташки, и даже далекий трактор умолк. Жили только глаза, сотни глаз. Это они впустили в себя гипноз, остановили время, остановили — на разных высотах, где те в этот момент находились — чаши весов. Все ждало, какой следующий пасс сделает гипнотизер…
4
Начало войны Ромка Страшных встретил на гауптвахте. На гауптвахту он попал за злостную самоволку, томился на ней уже четвертые сутки, всего полагалось пять, и как ему это надоело — описать невозможно. Вырваться досрочно был только один путь — через лазарет, но с фельдшером он был в конфликте. Фельдшер был человек добрый и в меру грамотный, но — увы — начисто лишенный чувства юмора. А потому обидчивый. В прежние свои штрафные денечки Ромка дважды его надул. В первый раз — вдохновленный приближающейся грозой — имитировал приступ гипертонии, что при Ромкиной энергии и способности к концентрации оказалось сущим пустяком; во второй, отправляясь на губу, припомнил предостережение своей бабки — и запасся травкой, которую помнил по внешнему виду, хотя мудреное название и запамятовал, и наутро имел такую крапивницу — хоть студентам-медикам демонстрируй. Кабы оно осталось между ними, по доброте душевной фельдшер это как-нибудь пережил бы, но пограничная застава — коллектив небольшой, Ромка перед кем-то из приятелей своею проказой прихвастнул, ну и узнали все. Повод был не тот, чтобы гордиться общим ироническим вниманием. Первый случай фельдшер пережил без душевной травмы, но после второго — ну что с него возьмешь, если человек не понимает шуток! — затаил обиду. И когда на этот раз, можно сказать, творчески иссякнув, Ромка от безысходности пошел по банальному пути и принял пару таблеток пургена, его непритворные муки стали только поводом для фельдшерских насмешек. И поделом: ну кто поверит, что гауптвахтным меню можно отравиться? Фельдшер попросил старшину, чтобы Ромке поставили ведро («не бегать же бедному солдатику каждые четверть часа за полсотни метров на общий толчок, да и опасно это: дизентерия — штука заразная…»), потом сам принес ему старый стул без сиденья («поставь над ведром — ноги не будут уставать от полусогнутого положения; сиди себе и думай, как дальше жить…»).