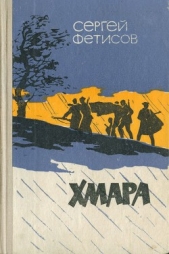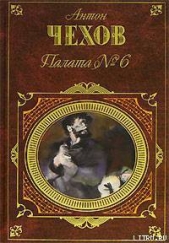Угловая палата
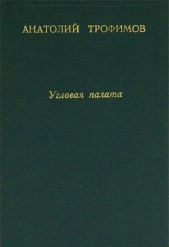
Угловая палата читать книгу онлайн
Почти полвека отделяют нынешнего читателя от событий, описанных в книге. Автор, чья юность пришлась на годы Великой Отечественной войны, рассказал «о своих сверстниках, шагнувших со школьного порога в войну, — о рядовых и тех, кто командовал взводами и батареями, о возмужании в восемнадцать».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пестов погладил здоровой рукой занывшую малопригодную руку и ответил:
— Видите ли, Василий Федорович, операция операции рознь. Меня на стол положили вскоре после бомбежки, вас с поля боя вынесли на вторые сутки. Мне кровотечение остановили без промедления, вам, спасая, вливали донорскую кровь. Газовая гангрена — это омертвение тканей, их полная нежизнеспособность, ее процесс на вашей правой ноге необратим. Сейчас наблюдают, надеясь на новый препарат, но шанс мизерный. Завтра-послезавтра пойдете под наркоз.
Василий Курочка потускнел, ужал губы, приостановил дыхание.
— Под-нар-коз... — выдохнул сильно, даже колыхнулись на окне маскировочные занавески. — Чего уж там — под наркоз, под нож, так-то точнее, — повел глазами направо. — Как же вон тот, на второй койке, седой который? Ведь совсем умирал, подняли, — никак не мог смириться со своей участью Иван Курочка.
— С Малыгиным случай особый, Василий Федорович. Отец с матерью, вероятно, на двоих рассчитывали, а получился один — вот такой русский Иван, богатырь Малыгин. Сердце у него бычье, и помощь на первых порах кое-какая была. Малыгина можно поднять. Если со стороны ничто не вмешается, еще воевать будет.
— А мне — каюк? В наседки?
— Зачем так... Прямого разговора захотели вы, а раз так — наберитесь мужества знать всю правду до конца. А она, к вашему счастью, не такая уж горькая. Левую ногу вам сохранят. Я видел ее, видел рентгенограмму. За левую ногу нет опасений, позади остались. Ильичев, наш ведущий хирург, убежден в благополучном исходе Если Олег Павлович для вас большой авторитет... Убежденность Ильичева он разделяет.
Василий Курочка недоверчиво притих, но в глазах затеплились искорки радости. Приподнялся над подушкой.
— Я думал — обе лапы под самую сидячку... вот спасибо-то! Ваше бы слово, Иван Сергеевич, да жене в ухо. — Он протянул руку для пожатия и, сдерживая накатившую на глаза слабость, перешел на прежний грубовато-шутливый тон: — Слава богу, теперь в доме мир и покой будет — реже спотыкаться стану. С одной ногой жить еще можно... А, Иван Сергеевич? Нехорошо только все время вставать на левую — характер подурнеть может...
— Не будем вешать носа, Василий Федорович, поживем еще, детей поднимем, а там, глядишь, и внучат дождемся.
Василий Курочка был растроган, но не вытерпел все же, спросил Пестова, когда он уходил:
— Иван Сергеевич, может, тот мизерный шанс все же выпадет мне?
Иван Сергеевич ничего не ответил, закрыл за собой дверь. А что ответишь? Начинать разговор заново?
Младший лейтенант понял это. Закинул руки за голову, осчастливленный, пропел озорно и бессмысленно: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла...» Закончил неуместную вроде бы песенку тоскливым, затухающим голосом «Срубил он нашу елочку под самый корешок...»
Не шибко, видно, осчастливлен, и горечи — хоть отбавляй.
Глава четырнадцатая
Мингали Валиевич постучал в дверь ординаторской, не дожидаясь ответа, вошел. Олег Павлович сидел на низком диване, согнувшись и опустошенно свесив руки к полу. Серафима, ассистировавшая при операциях, развязывала на его спине тесемки халата. Не менее уморившаяся, она с теплой жалостью смотрела на худую пробритую шею Козырева и едва сдерживалась, чтобы не сказать вслух того, что расплывчатой болью теснилось в душе. Оборвет ведь, не любит сочувствий и жалости. Грубого слова не скажет, но и взгляда будет достаточно, чтобы все нутро ожгло досадливым смущением.
Серафима стянула с Олега Павловича халат наизнанку, вывернула его, подала висевший на спинке стула китель. Козырев моргнул благодарно и показал жестом, что надевать не будет. Откинувшись на спинку дивана, отрешенно уставился на Валиева.
Мингали Валиевич готов был уйти: похоже, пришел не вовремя.
— Давай в другой раз, Олег Павлович, — сказал Валиев и направился к двери.
— Присядь, я сейчас, — не меняя позы, остановил его Козырев. — Две минуты. Через две минуты я очухаюсь.
Мингали Валиевич пристроился сбоку письменного стола. Отодвинув лежащие тут газеты, стал выбирать из полевой сумки нужные бумаги. Козыреву хотелось поблаженствовать в покое, но, не ощущая этого покоя из-за того, что уже было здесь сказано Серафимой, он продолжил начатый до прихода Валиева разговор с нею:
— Что же она пишет?
Серафима повспоминала содержание письма, подумала, что можно сказать, а что нельзя.
— Спрашивает, как поживает, — заглянула в письмо, выделенно прочитала незнакомое слово: — Как поживает кюз-ну-рым... как его здоровье...
Козырев приоткрыл один глаз чуть больше, остро прицелился им в Серафиму.
— Думаете — соврала? — поежилась Серафима под этим взглядом. — Могу показать, прочитайте.
Козырев сел прямо, не убирая прежнего взгляда и не скрывая вопроса от Мингали Валиевича, спросил:
— Кто? Сын, дочь?
— Для нее — сын, — ответила Серафима и, сердясь на свое невольное сострадание к обидчику подруги, добавила с вызовом: — Для нее — сын, а для кого-то — никто.
— Не вам об этом знать, Серафима Сергеевна, — укорил Олег Павлович, и пружины под ним сердито заскрипели.
— Да вот знаю... Еще и Олежкой назвала. Эх, Руфинушка... Не в вашу ли честь?
Олег Павлович резко поднялся, взволнованно прошел к окну и задумчиво замер. Не оборачиваясь, каким-то ободранным голосом произнес:
— Оставьте адрес.
— Нет адреса. В дороге родила, в Чебоксарах... Я не нужна вам больше?
— Спасибо, Серафима Сергеевна, можете идти.
В дверях Серафима оглянулась. Козырев, опершись о подоконник, смотрел в темноту парка и думал о своем. Даже не видя его лица, любой скажет: чертовски хорош майор медслужбы Козырев! Не показной аристократизм, не нарочитое пижонство и щегольство в нем (какое щегольство в нижней-то рубашке!). Собран, неустанен. Родился таким. Другого десять часов за операционным столом вымотали бы, выжали, а он — гляди-ко! Какая удержится, если поманит? Прижмет ушки, как заяц, и... В-во удав, чисто удав...
Стирая стыдные перед подругой мысли, Серафима, сердясь на себя за эти мысли, резко спросила:
— Когда пришлет письмо с адресом, известить?
Резкость в голосе Серафимы заставила обернуться Козырева. В прищуре глаз медсестры, верного своего помощника, уловил злой огонек и стал закипать. Чего суется! Чего лезет! Вон и Мингали Валиевич, черт лысый, ледяной коркой покрылся. Что они знают? За что осуждают? За что? Долбануть вот кулаком по оконной раме: «Не мой, не мой это ребенок! Из санбата привезла!» Да разве долбанешь, разве скажешь такое, если сам в то не веришь. Ну, был у нее кто-то, был! И не кто-то, а капитан Прибылов, командир медсанбата. Так что, у тебя не было? Ведь любишь, потому и терзаешься, сердцем болеешь, мозги черт-течем нафаршировал... О чем думал? Очередной мимолетный роман? «Простите нас, но мы имели право...» Несомненно, как же!
Да нет же, нет, Олег Павлович, майор медслужбы Козырев, все сложнее и гораздо серьезнее. Все приключавшееся до этого — пустое и недостойное. Что должно прийти — пришло, а коли пришло — радуйся, пылай, гори до золы!
Нарастающее в душе раздражение — на Серафиму, на Валиева, на себя, что дал волю этому раздражению, — не держалось, перло наружу. У кого-то оно и выперло бы, только не у Олега Павловича. Сказал Серафиме сдержанно:
— Буду благодарен за адрес.
Серафима не вышла и на этот раз. Строптиво вздернув голову, она подошла к Валиеву, ткнула пальцем в письмо:
— Как по-русски это ругательство?
Мингали Валиевич прочитал вслух: «Кюз-ну-рым» — и улыбнулся Серафиме:
— Так ругают у нас самого близкого и дорогого человека. Свет очей моих, если по-русски.
Серафима смущенно хмыкнула, покосилась на Козырева и только тогда направилась к дверям.
Нет, неймется-таки окаянной девке, снова остановилась, кивнула на газеты, лежащие с краю стола:
— Читали «В Совнаркоме СССР»? Прочитайте. Одиноким матерям, которые родили после восьмого июля, будут платить государственные пособия. Руфа родила семнадцатого. Так что, свет очей моих, она без вас проживет.