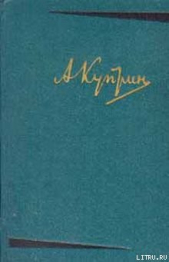Слово после казни

Слово после казни читать книгу онлайн
Из десятков миллионов людей в фашистских тюрьмах и лагерях смерти выжили немногие. Одним из них оказался и я. Попав впервые в концлагерь, я дал себе клятву: выжить! Выжить, чтобы рассказать людям о чудовищных злодеяниях фашизма. Книга эта рождалась в муках, она написана кровью моего сердца. Я искал беспощадные, острые как бритва слова и не находил. Рвал написанное и начинал заново. Я писал ночи напролет, а утром, забыв о завтраке, бежал на работу. С работы спешил домой, садился за стол и писал, писал... Это был мой неоплатный долг перед погибшими... В моем повествовании нет ни выдуманных событий, ни выдуманных имен, хотя, возможно, то, о чем я рассказываю, может показаться невероятным. Но все это было! Пепел замученных стучит в моем сердце. Это обязывает писать правду, и только правду. Меня расстреляли 28 июня 1943 года, в час ночи, в подвале гестаповской тюрьмы в Кракове. Я беру слово после казни...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мне слова не дали. Члены трибунала обменялись несколькими фразами, и секретарь зачитал заранее заготовленный приговор, который начинался словами: «Именем германского государства...» — а заканчивался: «Расстрелять».
В камере мной овладел страх и паническое ожидание конца. Достаточно было услышать шаги надзирателя или отдаленное звяканье ключей, как всего меня начинало колотить. Я почти физически ощущал, как жизнь медленно затухает в моем теле. Пытался овладеть собою — и не мог. Бичевал себя за малодушие — ведь я уже продумал, что, когда меня будут расстреливать, крикну: «Смерть кровавому фашизму! Да здравствует Советская Родина!»
О муках и переживаниях осужденных на казнь я много читал. Среди книг попадались такие, что буквально наизнанку выворачивали душу. И все-таки осмелюсь утверждать, еще не было писателя, который смог бы по-настоящему отобразить все, что переживает, о чем думает человек перед казнью. Не сумею сделать этого и я, хотя пишу о себе.
29 июня в девять часов утра меня вывели из камеры и привели на первый этаж. Я считал, что ведут на расстрел, однако теперь какого-то особого волнения не ощущал. Странно, что не надели наручников. Ведь всем, кого ведут на казнь, надевают наручники. Но вскоре выяснилось, что меня привели в кабинет тюремного врача. Кто бы мог подумать, что в гестаповской тюрьме имеется такая штатная должность! Кроме врача, здесь был офицер-переводчик, который вчера зачитывал мне приговор. Они беседовали. Я прислушался. Говорил в основном врач, офицер только поддакивал.
— Я не из тех, кто творит науку, но, полагаясь на свой опыт и наблюдения над русскими военнопленными в лагерях, где я работал, могу с уверенностью сказать, что в нашей медицине еще много пробелов. Возьмите хотя бы такой факт: живучесть неполноценной расы? Подопытного русского можно сколько угодно морить голодом, бить, сажать в карцер, не давать воды, а он живет, вопреки всем представлениям о возможностях организма. Чем вы это объясняете?
— Правду говоря, я над этим никогда не задумывался,— ответил офицер.
— Так вот,— продолжал врач, рассекая руками воздух, словно саблей, — все объясняется близостью к животному миру, если хотите знать. Мы с моим шефом Хуппенкотеном пришли к этому неожиданному и весьма простому выводу. Он даже блестяще защитил диссертацию, рожденную в результате тысячи опытов...
Гестаповцу, по-видимому, надоело слушать разглагольствования ученого мужа, и он предупреждающе поднял руку, но тот, не давая ему и слова вставить, перешел на более конкретную тему:
— Обратите внимание на этого человекообразного юношу. Типичный представитель. Нажраться — вот все, чего он хочет. За год в Германии он не усвоил ни единого немецкого слова, а когда его расстреливали, даже слезы не уронил. Животное! Ему безразлично, куда его ведут: на расстрел или в уборную. Таких следует уничтожать беспощадно. Но, увы, Германия теперь, как никогда, нуждается в рабочих руках. Поэтому весьма разумен и своевременен приказ о замене казни пожизненной каторгой, который вступил в силу сегодня. В самом деле, какой толк, если мы повесим этого физически здорового дикаря? А если отправить его в лагерь, там он будет работать за черпак баланды. Правильно я говорю, коллега?
Офицера вконец утомил этот затянувшийся монолог, и он предложил быстрее закончить какую-то формальность.
— Ну что ж, — согласился доктор. — Мой вывод — можно использовать на тяжелых физических работах.
После этого он заполнил карточку, где они оба поставили свои подписи. Затем эскулап вытащил пинцетом спички из-под моих ногтей, а раны смазал йодом, даже не перевязав искалеченные пальцы.
Меня снова повели в помещение трибунала. Там зачитали окончательный приговор о замене расстрела пожизненной каторгой в концлагере сурового режима...
Глава 5
Камера помещалась на втором этаже. Когда надзиратель отпер дверь, ударил такой смрад, что я попятился, но, получив увесистый удар в спину, упал прямо на людей, которые копошились на цементном полу.
...Здесь постоянно царил полумрак. Ночью тускло горела маленькая дежурная лампочка. Большая же включалась только тогда, когда надзирателю надо было заглянуть в глазок. Была здесь еще одна лампочка — синяя, сигнальная, с помощью которой тюремщик подавал команды подъема, отбоя или построения на перекличку. Под самым потолком единственное крохотное окошко с крепкими металлическими решетками, через которые иногда пробивался солнечный лучик, будто осколок далекой вольной жизни.
Распорядок дня как и в других тюрьмах. В четыре — подъем, уборка камеры, мытье параши и утренняя поверка. После этого завтрак — по двести граммов кипятка мутно-коричневого цвета. В двенадцать обед — по пол-литра холодной вонючей бурды. В семь вечера — по кружке эрзац-кофе. Это «меню» за все время моего пребывания в тюрьме никогда не менялось.
Круглосуточно заключенных водили на допросы, откуда они, как правило, возвращались калеками. Некоторых приносили на носилках и швыряли, словно вязанку дров.
Меня поразила дружба и сплоченность этого интернационала узников. Поляк оказывал помощь больному русскому, чех ухаживал за искалеченным на допросе французом, перевязывая ему раны самодельными бинтами из собственной рубахи, а советский военнопленный вел задушевный разговор с немцем-антифашистом. Больного югослава мучила жажда, и заключенные отдавали ему из своего скудного пайка ложку баланды или кипятка, каждый, чем только мог, старался облегчить страдания товарищей. Я никогда не забуду этой волнующей взаимовыручки растоптанных, но не сломленных, сильных духом людей. Разноязычный и разноликий коллектив был спаян общим горем, общими взглядами, общей судьбой.
Первый, с кем я познакомился, был старый, седобородый поляк Казимир. Он подхватил меня, когда я падал, попросил товарищей потесниться и дать мне место. Когда глаза мои немного освоились с мраком, я увидел высохшие, измученные лица. «Живая братская могила»,— подумалось поначалу. Но, несмотря на эти ужасы, я обрадовался как маленький. Шутка ли, наконец-то я среда людей, могу смотреть на них, могу говорить с ними.
Прежде всего меня попросили рассказать о себе. Я скрыл только работу на шахте «Гогенцоллернгрубе» и обстоятельства побега. Меня слушали затаив дыхание.
— Так это ты и есть тот мальчик, которого расстреливали?— взволнованно произнес Казимир.
Во всех тюрьмах был свой «беспроволочный телеграф». Дело в том, что политические заключенные выполняли в тюрьме всю работу по уборке разных помещений, работали в прачечных, на кухне, в медпункте, подметали и мыли полы в кабинетах следователей и в помещении трибунала, раздавали еду. Благодаря этому они сравнительно много знали и тихонько передавали в камеры важнейшие новости. Возможно, что в краковской тюрьме существовала подпольная антифашистская организация политзаключенных, а может быть, ее и не было вовсе. Узнав, под каким «эскортом» меня привезли сюда, политические заинтересовались моей личностью и, насколько это было возможно, следили за моей судьбой.
Меня окружили вниманием, помогали кто чем мог. Казимир — староста камеры, умудрялся выкраивать для меня лишнюю порцию баланды, лишнюю кружку кипятка, чтобы я мог попарить искалеченные, распухшие пальцы, которые не переставали гноиться, промывать раны на спине.
Наступила ночь. Через окошко в камере виднелся зарешеченный кусочек неба и несколько синевато-белых мерцающих звезд. И меня снова охватила невыразимая тоска по воле...
Заключенные шепотом разговаривают. Тихо журчит приглушенный голос Казимира. Старостой он стал несколько дней назад. До него был польский уголовник Юзек. Он всячески издевался над заключенными, особенно над советскими людьми. Когда терпение иссякло, Юзека ночью прикончили. На утреннем аппеле комиссар Красной Армии «дядя Ваня», как называли его в камере, взял вину на себя, чтобы спасти товарищей. А как он умирал, видел только я.
Три дня спустя меня «выдернули» из семнадцатой и снова бросили в одиночку.