Танки идут ромбом
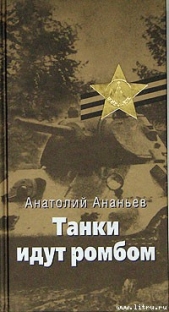
Танки идут ромбом читать книгу онлайн
Роман «Танки идут ромбом» повествует о трех днях Курской битвы. Герои этого произведения воспринимаются как наши современники, потому что их мысли и чаяния в суровое время Великой Отечественной войны были озарены светом завтрашнего дня, обращены в будущее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он снял гимнастёрку, белый халат надел прямо на рубашку, но все равно было жарко, пот струйками скатывался по спине к поясному ремню; широкие, узкие, бесконечной лентой текли из рук его бинты, обкручивая человеческие тела; давно уже не приходилось так напряжённо работать, раненые все подходили, подходили, угрюмые, молчаливые, злые, и никто не задавал им вопроса: «Как там?» — всем было понятно, что там тяжело, очень тяжело, ад, пекло; фельдшер Худяков читал это в глазах подходивших оттуда, из пекла; он почти не разгибал спину и только приподнимал голову, чтобы выкрикнуть: «Следующий!» Он принимал легкораненых в той же палатке, где хирург рылся в животах, вылавливая, как налимов, осколки; «дзинь, дзинь» — падали осколки на дно оцинкованного таза. Эти звуки заставляли вздрагивать Худякова; чтобы успокоить нервы, он доставал из кармана флакон с разведённым спиртом, отворачивался и отпивал глоток; флакон уже был на две трети опустошён, когда его отобрали у фельдшера. Но папиросы никто не отберёт, курить никто не запретит. Он вышел из палатки, белый, с засученными рукавами, с потёками и брызгами крови на халате, постучал папиросой о ноготь, продул мундштук и закурил, наслаждаясь мягкостью дыма. Он был весь поглощён своими думами; ни багряное небо, ни гул артиллерийской стрельбы, ни суета санитаров, ни урчание машин — ничто не интересовало его; выкурить папиросу на свежем воздухе и не насладиться вкусом дыма, не ощутить всю сладость минуты — просто немыслимо; и ещё — вспомнить о том, как мужественно держалась девчонка, у которой осколком оторвало руку, а девчонка — удивительно милая, смотришь — и года свои забываешь; войдёшь в палатку, снова потекут телеграфные ленты бинтов, но — это будет потом, когда войдёшь в палатку.
Чья-то рука легла на плечо.
— Добрый вечер.
— Лейтенант, дружище, ты как здесь?
— Раненый у вас умер, вон в той. — Володин кивнул в сторону палатки, в которой видел умершего бойца.
— Все может быть. Там лежат безнадёжные, которых нельзя транспортировать. Ты как сюда, а? Вижу: цел, невредим. А-а, постой, погоди, не к ней ли?
— К кому?
— Одну тут привозили с развилки, волосёнки светлые, ей-ей…
— Фамилия?
— Не помню. Да ты сам можешь узнать, тут сержант их лежит. Тоже, — Худяков покачал головой, — в живот, безнадёжный. Вон в той, кажется, палатке… Куда ты? Погоди, успеешь!…
— Сейчас вернусь.
Несмотря на то что Шишаков лежал как раз напротив стола, на котором горела сальная свеча, Володин не сразу узнал старого сержанта. Тот похудел, осунулся за эти часы; на лице его теперь ясно выделялись скулы, и даже рыжие усы, всегда по-фельдфебельски бодро торчавшие из-под ноздрей, казалось, сникли, потеряли свою прежнюю упругость. Изменился и голос. На торопливые вопросы Володина он отвечал медленно, будто напрягал память: нет, Людмила Морозова не ранена, она уехала на хутор Журавлиный; туда все уехали, там развилка и организуется новый пост…
— Значит, уехала?
— Да, уехала. А меня в живот… Но фельдшер сказал, выживу. Фельдшер говорит, мне повезло. Не обедал, говорит, ты, кишки были пусты, вот осколок и прошёл между ними. Только толстую задел. А толстая, говорит, не самая главная, так что выживу. — Сержант помолчал, пересиливая боль, и поманил Володина наклониться пониже. — Слышь, лейтенант, а я как раз перед этим по-большому сходил, хе-хе. — Хотел засмеяться, но только страдальчески обнажил жёлтые прокуренные зубы. — Как раз перед этим, ровно знал, хе-хе…
— Все обойдётся, все будет хорошо.
Ничего более утешительного Володин не мог придумать и повторил эти слова машинально, лишь бы не молчать; и улыбался, хотя ему вовсе не хотелось улыбаться — он знал, что старик Шишаков не выживет; все, кто лежал в этой палатке, — все были обречены.
С лесной поляны били тяжёлые орудия. И сальная свеча на столе, и брезентовая крыша палатки вздрагивали от сильных толчков. Толчки повторялись через равные промежутки, было похоже, что кто-то огромным молотом разбивал землю и те секунды, что проходили между ударами, как раз требовались для нового взмаха. Володин не заметил, когда именно открыла огонь батарея, — когда он ещё был во дворе и разговаривал с Худяковым или раньше, когда пересекал овраг, но то, что уже соломкинская батарея включилась в бой, настораживало внимание. Вероятно, наши отошли, а немцы продвинулись настолько, что можно по ним стрелять даже отсюда, из Соломок! Володин все ещё смотрел в бледное, заострившееся лицо старого сержанта и, улыбаясь, повторял: «Все обойдётся! Все будет хорошо!» (эти слова теперь произносились не только для Шишакова, ими Володин отвечал и на свои собственные мысли: увидит ли Людмилу ещё когда-нибудь? как обернётся сражение? останется ли сам он, Володин, жив или вот так же, пожелтевший и худой, будет лежать в палатке и верить в своё выздоровление, а по ту сторону брезентовой стены, может быть, тот же Худяков в белом халате с засученными рукавами скажет Пашенцеву: «Безнадёжный!…») — он все ещё всматривался в синие жилки морщин на старческом лице сержанта и, улыбаясь, произносил: «Все будет хорошо!» — но уже знакомое ощущение близости боя охватывало его. Главное — там, в окопах, где бушуют разрывы и решается судьба сражения; главное — там, и туда нужно спешить… Раненый, к которому Володин сидел спиной, все время бредил, выкрикивал команды, кого-то проклинал; за стеной палатки зашуршали шаги — прошли санитары; один из них бодро насвистывал «Пусть ярость благородная…» Мелодия оборвалась, слышались только глухие удары пушек, но эти удары уже воспринимались как маршевый ритм мелодии: «Идёт война народная…» По булыжной мостовой, по той памятной булыжной мостовой, запорошённой белым снегом, шли серые колонны к теплушкам, и чёткий стук тысяч сапог потрясал улицу; тысячи голосов сурово и торжественно выводили: «…священ-на-я война!» — в такт шагам; весь техникум высыпал на тротуар; до самого вокзала шёл Володин за колонной, а потом стоял и смотрел, пока не отъехал эшелон; тогда, в тот хмурый декабрьский день, он впервые не по книгам узнал, что такое Родина; песня пробудила в нем ещё ни разу не испытанное чувство большого долга. Володин торопил минуту, когда сможет выполнить долг. Иногда казалось, эта минута уже наступала: первый раз — когда ощутил в ладонях, совсем нежных, только что державших ручку и карандаш, тяжёлое и холодное ложе винтовки; потом — первый выстрел; потом — настоящий окоп, настоящие пули, сбрившие траву у окопа, настоящие мины, которые шипели над головой: «ищу-ищу-ищу!» — и первый грохот разорвавшегося тяжёлого снаряда; потом — ночной бой, ночная контратака, в которой Володин ничего не видел и ничего не понял, только кричал «ура» и никого не встретил и не рассёк очередью из автомата; потом… И сальная свеча на столе, и брезентовая крыша палатки все так же вздрагивали от толчков; все тем же размеренным ритмом били тяжёлые орудия с лесной поляны; Шишаков что-то говорил, и Володин никак не мог понять, о чем он говорил.
— Медальоны? Какие медальоны?
— Медальоны смерти…
Маленькие железные коробочки, похожие на крохотные портсигары, — их выдавали каждому на фронте; они непромокаемы, в них вкладывают бумажки с фамилией и домашним адресом бойца, хранит их каждый по-своему, — кто в брючном карманчике, кто пришивает к гимнастёрке, кто вешает на грудь, — как медальон, — может быть, потому и назвали их «медальонами»? «Убило тебя, к примеру, а ты в грязи или в воде, и документы промокли или совсем нет при тебе никаких документов — по медальону опознают, кто ты такой есть, и напишут родным. Медальон на случай смерти — незаменимая вещь!…» — так пояснял Шишакову ротный старшина; так потом и Шишаков объяснил своим регулировщицам. Но девушки совсем не собирались умирать и наотрез отказались от медальонов. Шишаков выстраивал отделение, приказывал, вызывал по списку на беседу, давал наряды вне очереди и под конец пожаловался старшине, но тот только развёл руками: «Девчонки, что с них!…» Старый сержант держал медальоны при себе. Зашил в гимнастёрку, во внутренний карман. Сейчас Володин должен был взять гимнастёрку, которая лежала у изголовья, распороть шов и достать медальоны. Многих уже просил об этом Шишаков, но никто и слушать его не желал, ни санитары, ни фельдшер, а железные коробочки сержант обязательно хотел вернуть в роту, потому что — казённое имущество, и потом — как без медальонов будут регулировщицы, ведь они остаются здесь, на фронте? Володин должен взять медальоны и непременно переслать их старшине на хутор Журавлиный.


























