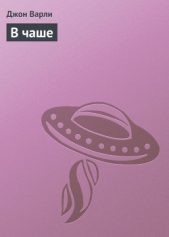Блок-ада

Блок-ада читать книгу онлайн
«БЛОК-АДА», непривычным написанием горестно знакомого каждому ленинградцу слова автор сообщает о том, что читателю будет предъявлен лишь «кусочек» ада, в который был погружен Город в годы войны. Судьба одной семьи, горожанина, красноармейца, ребенка, немолодой женщины и судьба Города представлены в трагическом и героическом переплетении. Сам ленинградец. Михаил Кураев, рассказывая о людях, которых знал, чьи исповеди запали ему в душу, своим повествованием утверждает: этот Город собрал и взрастил особую породу людей, не показного мужества, душевного благородства, гражданской непреклонности. Только они, не мыслившие ни для себя, ни для Города неволи, порабощения врагом, могли выстоять в самую тяжкую и, казалось, безысходную пору.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для прочности конструкции недоставало третьего элемента. Нужно было предъявить материальное свидетельство того, как это «художественное произведение» порождает особый тип граждан, своих горожан, наделяя их особого рода слухом, способностью слышать свой Город, как таежник, воспитанный лесом, слышит тайгу, и выражать услышанное. Можно ли увидеть, как Город взращивает интеллектуально и духовно независимую личность?
Слух – это особая категория, его невозможно подделать, как нельзя подделать порядочность, вот почему «ряженые петербуржцы» сплошь и рядом «дают петуха». И едва ли случайно какой-нибудь господин, уже уверивший доверчивую публику в том, что он и есть чуть ли не образцовый петербуржец, вдруг объявит по радио о том, что «у нас в Ленсовете сложился хороший задел по лицам». Как говорила моя матушка, Бог шельму метит.
Не случайно, наверное, великие петербуржцы – Блок, Достоевский, Гоголь, Пушкин – прибегали к музыке как доказательству окончательному.
Увидеть процесс становления и перехода в любом исследовании – дело едва ли не самое трудное. Вспомним хотя бы, как важно для понимания природы увидеть порог, а еще лучше шаг через этот порог, когда неживая природа обращается в живую.
Дневник Елизаветы Турнас (не знаю ни ее национальности, ни места рождения и не придаю этому никакого значения, так как иными мерками отличает своих детей и чуждых ему Город), о котором веду речь, и есть свидетельство того, как горожанка, обладая «петербургским слухом», становится голосом Города, как бессознательно речь ее становится художественной, иначе Город и не может говорить о себе.
Что отличает, какие тона характерны для этого голоса?
Естественность. Отсутствие позы. Простота, не лишенная изящества.
Ирония, зачастую обращенная на себя.
Бесстрашие перед лицом невероятного, невозможного, запредельного. Сознание себя частицей России, ее судьбы.
Все это есть в дневнике Елизаветы Турнас.
А начинается этот дневник примерно так, как начинаются школьные сочинения на неизбывную тему «Как я провел лето». И первые строки, достойные открыть художественное повествование, тут же тонут в веренице простодушных фраз.
«Весна 1941 г.
В этом году долго пришлось ждать весну. Наконец растаял снег, но тепла еще не наступало. Северные ветры неумолимо дули каждый день, принося холодные дожди. Мы с сыном начали копать огород в надежде посадить овощи и цветы. Других занятий не было, и мы с усердием принялись за эту работу.
(Цитируя запись, я позволил себе сохранить некоторые огрехи орфографии, необходимые для обозначения дистанции между прописной и духовной культурой автора.)
Почти каждый день ходили в лес за колышками для забора и подпорками. Вити очень нравилось это занятие, он любил помогать мне во всяком деле. В десятых числах июня были засажены огороды. Мы с Витей пошли опять в лес, было очень холодно. В лесу нас застал сильный град и довольно продолжительный снег. Мокрые и замерзшие вернулись мы домой…»
Вот такое эпическое начало. Ни слова ни о себе, ни о родне, ни о муже, ни о работе. Такой интонацией начинаются повествования, в которых автор уже предвидит долгую дорогу и не спешит заполнять необходимые клеточки сюжетного кроссворда. Впрочем, в этом дневнике автор нимало не заботится о «читателе» и не собирается ему что-то разъяснять и втолковывать. И оттого, что традиционно необходимое остается непредъявленным, приобретают особую значимость как бы необязательные подробности жизни и судьбы обломка семьи и обреченного на уничтожение Города.
Обозначение записей датами подсказывает название – дневник, в строгом же смысле это скорее «Записки», жанр несколько неопределенный, тем не менее освобождающий автора от обязательств поденной записи. Записки Елизаветы Турнас – это хроника трагического возвышения личности. Тем важнее, как потом уже понимаешь, размеренность первых страниц, почти пасторальных.
«Говорили, что такие поздние холода погубят урожай. Долгие вечера мы с Витенькой проводили дома за чтением книг. Я испытывала огромную радость от общества с сыном. Он начинает все понимать, чувствовать и жить одною мыслью со мной. Меня радует, что он видит во мне товарища, не скрывает от меня своих бед и нужд и вместе с тем очень скромен в своих требованиях. Рождается счастливое чувство, что он и я – это одно. Теперь я никогда не буду одинока, что так остро ощущала раньше».
Город проведет ее всеми кругами ада, отнимет сына, и сентиментальный стиль изначальной петербургской прозы сменится жесткой, со скрежещущим «ж», цветаевской фразой: «Я так сжилась с ним, что мне кажется, он был всегда, даже в моем детстве». Но это же в аду, а пока…
«Жизнь протекала своим чередом. Денег у нас хватало. Один раз в неделю бывали в городе, ходили в театр или кино. Сын начал интересоваться театром, особенно детскими постановками. Особенно ему понравились балет «Балда» и постановка ТЮЗа «Аленушка».
Вот так питерцы и произрастают, так их и растят. Семи лет еще нет – интересуется театром. Детскими постановками, и балетом, и драмой.
«21-го июня была суббота…»
Все даты в дневнике наследника, а потом и хозяина земли русской помечены указанием «четверг», «пятница», «суббота». А у Елизаветы Турнас, может быть, и случайно, уж во всяком случае бессознательно, соскользнувшее с пера «была» обнаруживает слух, позволяющий запечатлеть эпическое движение времени.
«И был день второй…»
«Мы с Витей поехали к Вл. Ив. Этот день, как и многие другие, прошел обыкновенно, за чаем, патефоном. Поговорили о том, что нового в политической жизни, но особенностей никаких не было».
Вот эту жизнь она вспомнит и с горечью крикнет в небесную пустоту: «Неужели я так много хотела, что у меня отняли все».
Но это она запишет уже в конце марта 1942-го:
«Если допустить, что есть Бог и он сейчас ведет расправу за грехи человеческие, то по-видимому, я самая большая грешница, ибо большего наказания не придумать. А может быть, я и ошибаюсь. Мне свое горе кажется необыкновенно тяжелым, но если вникнуть в жизнь окружающих, то видишь, что нет предела человеческим страданиям».
А это в мае, тоже 42-го:
«После смерти сына я хотела поверить в Бога, для этого я читала много о нем, тогда меня это успокаивало, правда, пока держала книгу в руках, но теперь я начинаю верить и боюсь. Порой мне хочется крикнуть: Господи, мирюсь со всем, только не накажи меня больше. Но я чувствую, что буду страдать еще и еще. Еще недавно я думала, что больше, чем я перенесла, ничего придумать нельзя. Но теперь я вижу, что несчастьям может и не быть конца. На моих глазах может погибнуть с голода или болезни моя сестра, мне может оторвать руки, и нужно будет валяться, как чурбак, причинять горе другим и страдать самой. Я боюсь всего».
Попытка обращения к Богу в конечном счете завершится взаимным равнодушием.
Но вернемся к повествованию.
Кто такой Вл. Ив., которому наносятся регулярные субботние визиты с ночевкой? 28 марта 42-го Вл. Ив. вывезет «Веру с ребятишками в Пестово» и окончательно исчезнет со страниц дневника.
Диспозиция расположения родни в пригородах – в Тайцах, Сестрорецке, Шувалово и Левашово – понятна только автору.
Сестра Лена с сыном, именуемым по-домашнему Лидей, живет на улице Герцена.
В Шувалово живет свекровь, именуемая мамой и почти не присутствующая на страницах дневника, поскольку, надо думать, сравнительно благополучна. В сорок втором она купит козу – это когда в городе и собак-то подъели.
Освобожденность дневника от обязательного груза – свидетельство той свободы, которая необходима для непроизвольного и искреннего сообщения о самом важном. И художнику самому знать, что важнее: пчелы, не ведающие о войне, или левашовская мама, в связи с началом войны не упомянутая.