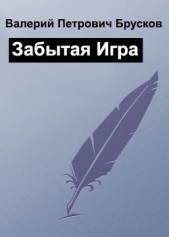Рассказы разных лет
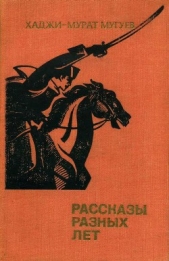
Рассказы разных лет читать книгу онлайн
Имя Хаджи-Мурата Мугуева, которому в 1978 году исполнилось бы 85 лет, широко известно.
В новый сборник включены лучшие военные произведения, как издававшиеся, так и сохранившиеся в архиве писателя. Это рассказы и очерки о гражданской войне, разгроме басмачества и о Великой Отечественной войне. Все они говорят о героизме и мужестве советских людей, о защитниках Родины.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Где взводный?
— Тольки что туточки был. Должно, в хату пошли, — оглядываясь, сказал один из мывших ноги бойцов и добродушно предложил: — Ты б, товарищ командир, помылся. Вода здесь вежливая, теплая. Усю грязь начисто отмоет.
Я сердито глянул на него и только что хотел предложить собираться к обратному путешествию в село, как из дверей хаты вышла женщина, и я сразу же забыл, зачем я пришел сюда. Она была невысокого роста, с ярко-рыжими волосами, большими серыми глазами и с чуть полнеющей фигурой. Было ей, вероятно, лет двадцать пять. Она искоса быстро взглянула на меня и, опуская глаза, почти прижимаясь к стене, робко прошла к плетню, на зубьях которого висели сохнущие на солнце тыквы. Я глупо поглядел ей вслед и неизвестно для чего покрутил свои отросшие усы.
— Мельничиха… Ха-а-рошая баба. Германка! — глядя на возившуюся женщину, пояснил боец. — Мельник с беляками тикал, а она осталася… Сочная ягодка! — причмокнул он.
Его слова, вероятно, долетели до немки. Не оглядываясь, она еще ниже пригнула голову и, сняв с кола большую румяную тыкву, поспешно внесла в хату.
Солнце сильней ворвалось во двор мельницы, или же мне это только показалось, во всяком случае мне стало жарко и радостно.
— Игнатенко наш лисой кругом нее ходит… С самого утра ужом круг нее плетется… — сердито продолжал боец.
Другой, чинивший перебитый пулей арчак, коротко вставил:
— Мало что ходит. Это еще не факт, что взводный. Насчет бабов начальства нету.
— Правильно! — засмеялся кто-то.
Я пристально оглядел говоривших. Они замолчали, недружелюбно принимая мой взгляд.
«Надо сейчас же уводить отсюда взвод», — решил я и вошел в хату.
II
Жилище мельничихи было из двух комнаток. Первая была прохладными сенцами, в которых находились разные домашние вещи: чугуны, ведра, корыта, сломанный табурет, какая-то рухлядь. Все это было расставлено по углам. За занавеской пряталась крохотная кухонька. Во второй комнате, светлой и чистой, сидел у стола Игнатенко и, надувая щеки и делая страшное лицо, пускал пузыри, играя с девочкой лет четырех. Ребенок, видимо уже привыкший к чужому, смеялся, шлепал ручонками и в свою очередь строил уморительные гримасы. У порога сидели двое бойцов. На широкой лежанке лежали аккуратно сложенная амуниция и шинель Игнатенко, а в углу стояли винтовка и два патронташа взводного. Сам Игнатенко был в чистой гимнастерке с расстегнутым воротом, вымытой шеей и гладко побритым подбородком.
«Устроился по-домашнему», — хмуро подумал я, подходя к взводному. Мой приход смутил Игнатенко. Он неуклюже встал, почесался и, глядя куда-то в сторону, неопределенно сказал:
— Ну, чего есть нового, Василь Григорьич? Может, чайку горячего попьем? — совершенно некстати спросил он, явно уклоняясь от предстоящего разговора. И это смущение, семейная обстановка со смеющимся ребенком, гладкие щеки, расставленные в спокойном порядке вещи взводного обозлили меня.
— Устроился? — коротко спросил я.
Взводный вздохнул и, отворачиваясь в угол, сделал вид, будто бы ищет кисет.
— Вот что, любезный друг, собирай взвод да выводи его обратно в село, на старые квартиры, а о нарушении дисциплины поговорим позже…
Игнатенко повернул ко мне красное, вспыхнувшее лицо. Его глаза сердито сверкнули, и он обидчиво забормотал:
— Почему обратно? Это я вовсе не понимаю, к чему подобное, товарищ эскадронный. Да! Опять же тут и вода, и сено, и луг… коням легше… Да-а… А насчет взвода, Василь Григорьич, я ничего не имею, я его не звал, он сам сюды перебрался. — И, окончательно запутавшись, замолчал, судорожно мигая своими белесыми веками. По его красному, загорелому лицу пошли белые пятна. Девочка, умолкшая при моем появлении, тихо заплакала, оглядываясь на дверь.
— Довольно, товарищ Игнатенко. Стыдно тебе, взводному командиру, делать на фронте подобные вещи! Взвод здесь ни при чем. Собирай людей и веди их обратно! — сухо приказал я и почувствовал, как кто-то схватил меня сзади за рукав.
Я повернулся. Передо мной стояла мельничиха. Прямо в упор на меня смотрели два огромных серых глаза. Даю вам слово, что никогда, ни до того, ни после, не видал я таких прекрасных глаз! Быть может, это было мгновение, а может, и несколько минут. Что-то глубокое, новое и такое сильное было в них, и вдруг две большие слезы медленно выступили из-под ресниц и скатились по щеке.
— Гос-по-дин… това-а-рищ… — лепечет она, дергая меня за рукав, — не надо… уходил… не… надо, не на-а-а-адо! — выкрикнула она последнее слово и как грохнется к моим ногам…
Упала, волосы рыжие волной разметались, сапоги мои пыльные залили, а сама дрожит, рыдает. Ребенок увидел это, ка-ак взвоет! Растерялся я. Чувствую, что что-то надо делать, сказать слова какие-то мягкие… успокоить, а что сказать — и не знаю. И эти слова «не на-адо», с огромной тоской и болью сказанные, так меня по сердцу резанули, что понял я: неспроста так горько мучается эта женщина. Поднял я ее, отвел к столу, а Игнатенко из сенцев воды ей в кружке принес. Отпила она воды, одной рукой кружку держит, другой — дочку к себе прижимает. Не силен я в живописи, но, знаете ли, что-то фламандское, классическое было в этой сцене. Настоящий Ван-Дейк! Красивая, розовая, пылающая жизнью рыжеволосая немка с потоками слез на щеках и круглая, толстенькая девчурка у нее на коленях… а колени, обозначившиеся под платьем, тоже фламандские, полные, ну прямо с полотна классических голландцев. Подождал я минуту, вижу — успокаивается женщина, и тихо так, ласково говорю:
— Вы, гражданка, не хотите, чтоб мы отсюда уходили?
Мельничиха, глотая слезы, молча мотнула головой.
— А почему? Вы объясните. Если причина стоящая, тогда я отменю приказание. Вы понимаете меня?
— По-ни-ма-ю, — тихо, точно с трудом, проговорила хозяйка и подняла на меня глаза.
Словно плетью кто огрел меня по сердцу. Непередаваемой красоты… и ничего такого, что обычно утверждают господа романисты. Разные там намеки, страсти, недомолвки и прочее. Наоборот, такая грусть, такая скорбь, что одним этим тоскливым взглядом можно человеку всю душу наизнанку вывернуть. Как будто в могилу близкого, только что умершего человека смотришь.
— Боюсь я… ночью… одна. Не надо уходил… не надо!
— Боится одна оставаться, без народа. Тут ее красоту весь эскадрон видел… Кто знает, чего может быть… Верно я говорю? — обрадованно заговорил Игнатенко. — Никак нельзя уходить!
Я отошел к окну и задумался.
В самом деле, если увести отсюда людей, то могла приключиться беда. Разве мог я поручиться за всех сто человек моего эскадрона? Конечно, нет. Время было военное, да и вообще могли сюда ворваться люди и из других частей. Да и просто сельчане, соседи, парни со станции, хулиганы, для которых события этих дней были б лучшим прикрытием для насилия.
Я посмотрел на женщину. Ах, как же красива была она в эту минуту! Ее робкий взгляд встретился с моим… Страх, обреченность, мольба, надежда были написаны в нем. А щеки немки горели таким румяным пламенем, так бурно пылали ее воспаленные губы, что я судорожно проглотил слюну и, вместо слов, погладил по голове плакавшего ребенка.
Глаза мельничихи вспыхнули. Не вытирая слез, она улыбнулась и тихой, виноватой походкой пошла в сенцы и загромыхала посудой. Игнатенко недружелюбно сказал:
— Чай остаетесь пить? — ив его упавшем голосе явственно прозвучали ревнивые нотки.
— Остаюсь, — сказал я, — и не только на чай, а и совсем!
Звон посуды за занавеской прекратился. Игнатенко круглыми глазами смотрел на меня.
— Я тоже перехожу сюда. Ночую с вами, — деланно беспечно сказал я и почувствовал, как легко сделалось мне. Словно что-то тяжелое отлетело в сторону.
И я снова погладил притихшую девочку и очень весело крикнул в сенцы:
— Ну что ж, хозяйка, угощай чаем гостей!
По хмурым лицам бойцов, по коротким, отрывистым ответам я понял, что взвод недоволен моим решением. Игнатенко сделался неразговорчив. Словно подчеркивая свою неприязнь, он стал кстати и некстати подчеркивать «товарищ начальник». Я чувствовал на себе обиду взводи.