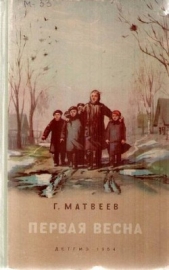Крушение

Крушение читать книгу онлайн
Знаменитая трилогия замечательного писателя-фронтовика Василия Дмитриевича Соколова (1919—1990) повествует о времени тяжких испытаний и великих подвигов советских людей, не сломленных трагедией 1941 года и нашедших в себе богатырскую силу сдержать и разбить врага.
Вторая книга трилогии продолжает повествование автора о судьбе русского человека и его подвиге в Великой Отечественной войне. Действие книги происходит в Москве, у стен Сталинграда, на Воронежской земле, в партизанских лесах Белоруссии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда сюда на выстрелы подъехал Ломов на машине, здесь орудовало уже около двух десятков солдат. Плечистый солдат без шапки, расслабленно привалясь к выездному столбу, громко выводил:
Синенький скромный платочек
Ганс посылает домой
И добавляет несколько строчек,
Что, мол, дела ой–ёй–ёй…
Машина проскочила на территорию склада. В глубине двора стояли две походные кухни. Котел одной из них уже был наполнен спиртом, и какой–то старшина, высокий грузин в танкистском шлеме, торопил солдат заливать второй. Те, усердствуя, прямо касками выплескивали наваристый гуляш на землю. У самого съезда вниз трое солдат увязывали в снятые с себя шинели большие плоские бутылки. Увидев легковую машину, они поднялись, не зная, что делать.
С одного взгляда Ломов понял все. Он подозвал ближайшего солдата.
— Что здесь происходит? Ты откуда?
— Сталинград обмыть надо, товарищ начальник. А сами-То мы тульские… — сверкнув золотыми зубами, отвечал тот. Он пошатывался и все время почему–то держал руку за пазухой.
Автоматчики генерала уже стояли рядом.
— Взять! — коротко приказал Ломов.
Сколько пьянящей власти и силы может быть в коротком восклицании! Что бы ни делал Ломов в эти несколько минут, он чувствовал за собой право на эту власть и право на эту силу. Твердой рукою на складе был наведен порядок. Выяснением личности нарушителей занялся прибывший комендант. Проходя по двору к машине, Ломов заметил идущие рядом с ним красные винные следы. Присмотревшись, он обнаружил, что весь снег вокруг него утоптан кроваво–красными пятнами. Это неприятно поразило его.
Во двор вкатился крытый брезентом вездеход. Из кабины выпрыгнул и побежал к генералу человек в замызганной шинели.
— Подполковник Аксенов, — сбивчиво представился он, прикладывая руку к мокрой от снега шапке.
— Откуда вы? — не узнав в лицо, переспросил Ломов.
— Товарищ генерал, я начальник штаба, подполковник… — словно гордясь тем, что уже повышен в звании, ответил Аксенов и добавил: — Встречались мы… В балке Котлубань. Я вас помню…
«Гм… Встречались… Помню…» — с недовольством подумал Ломов и, догадавшись, что было это в дивизии Шмелева, также рассерженно проговорил:
— Ну что, опять безобразия в вашем хозяйстве? Полюбовался я сейчас на хваленую дивизию! — Он вдруг повысил голос до крика: — Хватит! Больше я терпеть не хочу! Мародеры какие–то…
— В чем дело, товарищ генерал? — попытался узнать Аксенов.
Генерал не прекращал гневаться. За несколько минут он наговорил кучу неприятностей и особенно ругал Шмелева, его строптивый характер, который нужно обламывать.
— Да, обламывать! — повторил Ломов.
— Разрешите, наконец, разобраться, товарищ генерал? — спросил Аксенов.
— Вот они, проказы ваших бойцов, — пнул он валенком подтаявший и красный от вина снег. — Где Шмелев?
— Вроде не наши. Наши тут не проходили.
— Где Шмелев, спрашиваю? — требовал рассерженный Ломов.
— Вам больше известно, где Шмелев. На повышение пошел. Говорят, армией будет командовать.
Ломов озлился и, оставшись один, не переставал про себя ругаться: «Безобразие, до чего можно дойти с таким либерализмом! Возимся с этим Шмелевым как с писаной торбой, надо бы на место его поставить, а он возносится, как на дрожжах…» Генерал устало опустился на сиденье, достал платок и вытер вспотевшую шею. Стечение обстоятельств угнетало его. Вспомнив о немецкой колонне, он решил обождать, чтобы выяснить, разбита ли она.
Тем же часом Костров со своим отрядом въезжал в Чертково. День клонился к вечеру, маленькое, как блюдце, солнце висело над горизонтом. В поселке почти в каждом доме топилась печь, по улицам стлался едкий дым, пахло едой, теплом и прифронтовой обжитостью. Оставив колонну, Костров поехал разыскивать Ломова.
Во время доклада генерал пристально смотрел ему в лицо.
«Вспоминает», — подумал Костров и внутренне весь подобрался.
А когда Павел Сидорович, плотно сжав бескровные не от старости, а скорее от злобы губы, резко повернулся к нему спиной, Костров понял, что генерал узнал его. От этой мысли Кострову сразу стало жарко.
Доклад генералу не понравился.
— Какая, говоришь, колонна? Раненые. Обмороженные… — вкрадчиво начал он. — А приказ мой для тебя не закон? Я же приказал уничтожить.
— Но, товарищ генерал, в колонне были раненые, и они сдались, а остальные разбежались по степи, — попытался оправдаться Костров. — Ведь в тех, кто убегал, мы стреляли!
Он вспомнил тесно сжавшуюся толпу одичавших и насмерть перепуганных людей, покорно бросающих в снег оружие.
— Нет, я тебя спрашиваю: ты мой приказ слышал? — ожесточился Ломов. — Как разбежались?! Какие раненые?! Почему допустил? Ты что, в белых перчатках по войне пройти хочешь? Врага бить разучился?
Он ходил по комнате мимо Кострова, каждый раз резко поворачиваясь на каблуках.
— Тоже мне вояка! Щи лаптями хлебать, а не батальоном командовать!
— В сорок первом некоторые топали в этих лаптях, товарищ генерал! — второпях выпалил Костров.
— Лапти? — вздрогнул Ломов. — Я вам покажу лапти! Вы еще задохнетесь в них!
Все, что происходило потом, происходило с необузданной быстротой. Кострову показалось даже, что это была давно отрепетированная сцена, которую он уже где–то видел. Здесь был и подполковник Варьяш, с редкими волосами на блестящем темени, и еще какие–то люди. У Кострова отняли документы и оружие. Вдруг ослабевшими пальцами он долго не мог расстегнуть карман гимнастерки, и кто–то совсем бесцеремонно и умело помогал ему. Потом он очутился в пустой комнате. Й только здесь Костров попытался осознать все случившееся.
В комнате было холодно, сквозь маленькое окно просматривалась небольшая часть улицы, скучное низкое здание, а над ним, голубея вечерней бездонностью, простиралось небо с чуть заметной чистой звездой посредине.
— Что же это? За что? Что теперь будет? — спрашивал он себя и не находил ответа.
Он чувствовал, что где–то совсем рядом работает неумолимая сила, готовящаяся растоптать и уничтожить его.
Так что же это, произвол или ошибка? Его арестовали за то, что он не расстрелял колонну полуживых людей? Но ведь эта толпа скорее была похожа на собственную погребальную процессию, и уничтожение ее не сделало бы чести ему, советскому офицеру… И ему вспомнилось обмороженное лицо молодого немца, его безбровые глаза и припухлый рот.
А может быть, действительно это грошовый гуманизм? А что бы сделали немцы, будь они на месте победителя? «Да попадись я им в руки, они бы из моей спины ремней понарезали». Неужели Ломов прав? Наверно, все–таки зло надо искоренять до конца, до самого донышка.
Костров никогда не думал в таких масштабах, а теперь война представлялась ему двумя огромными мельничными жерновами, методически перетирающими друг друга. Летят куски, сыплются искры, осколки. И кто не понял этого движения, не удержался на своем жернове, будет уничтожен, потому что это и есть борьба. И разве где–нибудь здесь найдется место жалости к какому–то осколку. На войне ежедневно погибают тысячи, а может быть, и десятки тысяч людей, а гибель одного человека на общем колоссальном фоне даже не будет заметна. И кому какое дело, что погибнет именно он, Алексей Костров, простой воронежский парень. Да и кто знает этого капитана Кострова? В лицо его знают сотни две различных людей. А правду о нем, о его делах, мыслях, о всем том, что, собственно, и составляет лицо Алексея Кострова, — это знает только он один.
Сейчас Костров думал о себе, как о ком–то отрешенном, не имеющем к реальному, сегодняшнему Кострову никакого отношения… Так, значит, жизнь и смерть одного человека не влияют на судьбу войны? Сколько же надо жизней, теплых и больших человеческих тел, чтобы повлиять на нее? Кому дано право решать этот вопрос и в чьих руках находится эта мерка?
Костров хотел видеть во всем какую–то целесообразность. Война — это не нагромождение случайностей. Костров это знал, но целесообразности в смерти одной сотни немощных людей не было. Тогда в чем же ошибка Кострова–солдата? Он нарушил приказ. Но ведь приказ был отдан словами, а выполнять его нужно было свинцом, и речь шла о жизнях людей, оборвать которые очень просто, но переделать… А ведь мы военнопленных стараемся перевоспитывать! Мы не убиваем их, как фашисты наших.